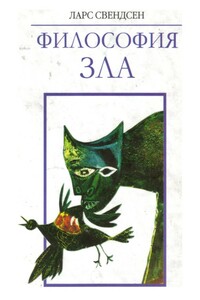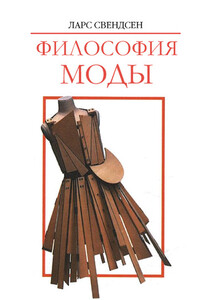Философия философии | страница 57
Набора никак не связанных между собой перспектив недостаточно. Нам необходима система. Раньше считалось, что каждый уважающий себя философ должен создать собственную философскую систему или по крайней мере стремиться к этому (как правило, дело ограничивалось лишь стремлением, и к тому моменту, как автор умирал или разочаровывался, система находилась в зачаточном состоянии). Философские системы Канта и Гегеля представляли собой синтез практически всех знаний человечества: естественных наук, математики, этики и права, культуры и истории, религии и искусства и т. д. Однако после Гегеля попытки развить такие системы предпринимались все реже, и в наши дни мало кому придет в голову пытаться выстроить целостную философскую систему. Философы в большинстве своем работают «по образцу науки», как выразился Кюн, то есть исследуют ограниченный и четко определенный круг проблем, которым можно заниматься отдельно в соответствии с общепринятыми критериями академической деятельности. Подобный подход принес философии много пользы, но при этом лишил ее амбиций по созданию общей картины.
Кое-кто даже утверждает, что время философских систем прошло. Такую точку зрения высказывал, в частности, Ричард Рорти. С другой стороны, очевидно, что философия не может быть начисто лишена системности – тогда она перестала бы быть философией. Даже самые «несистемные» философы – к примеру, Ницше и поздний Витгенштейн, подходили к исследованию определенных тем довольно систематично, хотя и не стремились к созданию единой системы. Витгенштейн сам подчеркивал, что, несмотря на фрагментарность его трудов, тот, кто понимает его, «сможет вынести из них целостную картину мира», то есть речь не идет о беспорядочном наборе отдельных наблюдений. К слову, сам Рорти как философ гораздо более систематичен, чем те же Ницще и Витгенштейн. Любая философия системна, хотя и в разной степени. Но время больших систем, объединяющих все знания человечества, действительно прошло.
Начиная с 1900 года Рассел доказывал, что философы должны отказаться от попыток выстраивания целостных систем, характерных для идеалистов XIX века. Он пришел к таким взглядам после периода увлечения философским идеализмом с сильным религиозным уклоном, который он пережил в 1890-х годах. К концу 1897 года он все больше стал склоняться к тому, что философия не должна быть проводником по жизни и выполнять функции религии и этики и что у нее нет задачи построения масштабной идеалистической системы всего. Вместо этого философ должен был решать одну проблему зараз, как поступают ученые. Аналогичная идея лежала в основе появившегося примерно в то же самое время первого конвейера на автозаводе Форда. Таким образом, занимаясь каждый одной определенной проблемой, философы смогут углубить специализацию и вместе с тем охватить все области философии, не беспокоясь о целостности философского знания, считал Рассел. Этот подход стал основой аналитической традиции, а затем и академической философии вообще, что привело к постоянному сужению специализации отдельных философов. Это означает разрыв с платоновским идеалом философа как «синоптика», то есть того, кто видит полную картину человеческих знаний. Кроме того, вследствие такого развития философия чем дальше, тем меньше занимается глобальными культурными проблемами, которые с трудом укладываются в схему разделения философского труда.