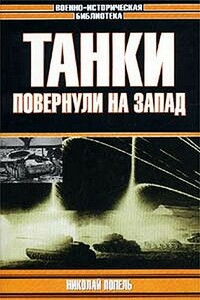Забытые | страница 47
В начале было желание. Оно заставляет нас поверить в тысячи химер, является причиной наших бед и нашей смелости. Оно превращает угнетенных в непокорных, а иногда – в умалишенных, матерей-одиночек или шлюх.
До встречи с Луи Ева уже чувствовала себя желанной. Это произошло еще во время учебы в лицее: она встретила Александра Алексерова. Он был на два года старше ее и жил тогда в Мюнхене в общежитии для русских евреев-иммигрантов. У него была изящная походка. Хорошо сшитый твидовый костюм, рубашка с идеально накрахмаленным воротником, акцент, который придавал всему, что он говорил, видимость правды. Немецкий был для него иностранным, но Александр, безусловно, обладал ораторским талантом. Он организовывал собрания, на которых живо и с энтузиазмом говорили о Палестине. Он рассказывал своим собратьям о Средиземном море, омывающем ее сахарные берега на севере, и о Красном море, омывающем ее с юга. Никто из этих ашкенази[44] не видел обсуждаемых морей, но все были словно зачарованы землей, которая находилась между ними. Александр музицировал на домре, наигрывал далекие мотивы, рожденные там, где жизнь била ключом. В кругу его знакомых Ева чувствовала себя ребенком. Александр любил жалобный звук, издаваемый струнами, Ева же предпочитала ностальгическое величие Шопена; пианистка, избегающая толпы, не реагирующая на враждебные взгляды и отдающая предпочтение частным салонам и тайной любви. Ее застенчивая душа, отказывающаяся играть в современном оркестре, чувствовала себя на своем месте, когда исполняла ноктюрны. Ева, обладавшая романтическим воображением, умела растворить мирской хаос в мелодии, которую слышала она одна.
Дать чувству название – все равно что уничтожить удовольствие, запретив ему постепенно развиваться. Угадывать, трактовать его – вот в чем заключается мечта. Они оба отдались мечте, однажды днем, после занятий, на железной кровати с жесткими и неудобными пружинами, немного смягченными простым одеялом в красно-серую клетку. Это случилось зимой. Было уже темно, на шею Александра падал отблеск свечи. Он был у Евы первым, и у него хватило такта не говорить об этом.
Когда они вышли из комнаты и спустились в холл, один из дядюшек Александра предложил им сигарету и кофе.
Вечером, угощаясь свекольным супом с мясом у Алексеровых, Ева почувствовала себя другой. Чудесные юношеские мечты и шопеновские арпеджио испарились. Она не была иммигранткой. Палестина не была для нее землей обетованной. Она была всего лишь ребенком, которого пригласили взглянуть на другую культуру, частью которой она никогда не станет. И взрослые, сидящие за столом, прекрасно об этом знали.