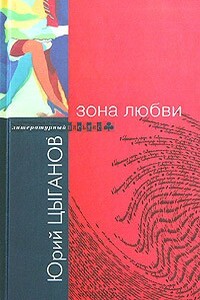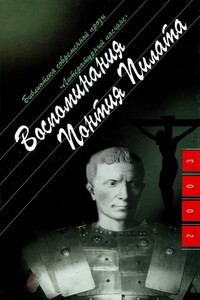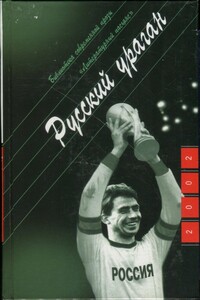Раннее утро. Его звали Бой | страница 12
Тетя Ева откидывается на спинку стула. Бабуля раскладывает лорнет: щелк-щелк.
— Гроб? Для кого?
— Так, для смеху, мадам. Они поставили его на веранде. Они все туда станут ложиться, начиная с самых пьяных, в общем, я так поняла.
— Но ведь сегодня Рождество, — стонет бабуля.
— Вот именно, — отзывается Мелани.
— Что именно?
— Вот именно, на Рождество веселятся.
Чтобы сделать приятное Мелани, я выдавливаю из себя смех. С тоски у меня хорошо получается. Я смеюсь все громче.
— Гроб! О, гроб, как смешно!
— Нина, прошу тебя! — шепчет папа.
— Ты что, не понимаешь? Гроб — это ясли.
Мелани возвращается на кухню, пятясь и без подноса. Тетя Ева поворачивается к папе:
— Поль, и ты ее не накажешь? Ты допускаешь… ты допускаешь святотатство?
— Оставьте-ка вы ее в покое! — возражает папа. — Вы обе к ней придираетесь, она защищается как может.
— Она всегда любила святотатствовать, — вступает бабуля и стучит по столу пухлыми кулачками.
Когда я хочу дать ей отпор, я смотрю на какую-нибудь из серег, свисающих из ее ушей: это сапфиры в бриллиантовой оправе; они не более неподвижны и не более холодны, чем ее глаза, но своими крючками пронзают — а значит причиняют боль, по крайней мере, так я думала в детстве, — эти бледные поганки, мочки ее ушей. Я знаю, о чем ты подумала, Бабка Горищёк. Мое первое святотатство. Ты тогда шла на меня, огромная, раздутая от возмущения, тряся щеками, я думала, ты раздавишь меня, мне не было по-настоящему страшно, папа встал между нами, ты бы не раздавила папу, Горищёк.
— Что у нас на десерт, Мелани?
— Каштаны, мадмуазель.
— А простокваши нет?
— Нет, эти господа все забрали. Чтобы освежиться. Подумать только! Они мешают коньяк, шампанское и пепел.
— Пепел! — вскричала бабуля.
— Да, мадам. От сигарет.
Я пользуюсь всеобщим ошеломлением:
— Можно выйти из-за стола?
— Убирайся! — скрипит тетя Ева.
Я встаю и через кухню выхожу в сад. Плавающая во мгле веранда — словно прозрачная шкатулка; я подхожу ближе. Только бы немцы меня не заметили (у меня длинная белая шея, надо ее прятать); я пригибаюсь, остаются одни глаза и волосы. Праздник веселый, «комик», как они говорят, их маслянистым голосам незнакома усталость, от гимнов они перешли к венским вальсам. Рядом с елкой, разукрашенной дурацкими игрушками, стоит гроб с серебряными ручками, на двух подставках. Подобравшись еще ближе, я разглядела подушечку и перинку: шуточным покойникам там будет удобно. Надеюсь, и наездник почиет там ненадолго. Увидеть похитителя Свары в гробу, в роли мертвеца — чего скрывать, я дорого бы заплатила за такую месть!