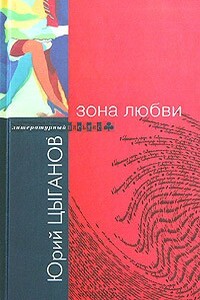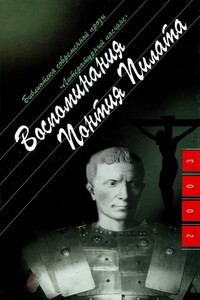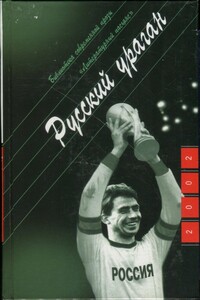Раннее утро. Его звали Бой | страница 10
— Придурки. Достали меня своими комплиментами.
Мы сидим за столом, в помещении, которое служит нам столовой. Это каморка, где Мелани чистит серебряную посуду, вернее, чистила, так как от нее остались лишь разрозненные приборы и гнутые блюда. (Три сундука, набитые соусницами, щипцами для сахара, лопаточками для торта, приборами для устриц и рыбы спят под самым высоким дубом у двора, я присутствовала при их похоронах, однажды ночью в прошлом году.) Это комната, заставленная шкафами и освещенная висячей лампой, почти такая же веселенькая, как приказчицкая; бабуля развесила в ней гравюры с наполеоновскими походами: это нас ободрит, утверждает она. Уж не знаю, зачем ей так нужно ободрение, этой старухе с отвисшими щеками, в шелковых блузонах, на которые спадают золотые цепочки и лорнет; она целыми днями читает романы, причем вовсе не о подвигах Наполеона. Если во всем доме в Наре и найдется человек, кого немецкая оккупация не печалит и не тревожит, так это бабуля. Она без всякой настороженности скользит взглядом по этим господам (она всегда их так называет), взглядом голубых глаз цвета аквилегии. (Это ее собственное сравнение. Она хвастается своими познаниями в ботанике. У нее глаза цвета аквилегии, у ее детей, то есть у моего отца и теги Евы — ближе к агератуму, наконец, глаза Жана она сравнивает с анемонами с фиалковым отливом.) Меня она не любит, считает уродиной: во-первых, глаза у меня черные, а для нее это почти то же самое, как если бы на них были бельма (черные глаза не лучше белых); к тому же я тощая, ключицы торчат, а сзади — плоская. Если женщина хочет нравиться, она должна быть «о-круг-лой», утверждает она, напирая на «о», как делают местные дамы, стремящиеся казаться утонченными. А эти волосы, эта прическа — Боже, ну как можно девочке так причесываться? Я стягиваю свои вьющиеся волосы в косу-змею, бабуля верит в чары начесов и буклей, разве я могу причесываться, как бабуля? Теперь она отчитывает меня:
— Что за выражения! «Достали»… Неужто тебе трудно говорить правильно?
— Затрахали, если тебе так больше нравится.
— Нина! — возмущается папа.
Бабуля с трудом восстанавливает дыхание:
— Она невыносима.
— Отвратительна, — поддакивает тетя Ева.
Мать Жана, я ее ненавижу. У нее крашеные волосы цвета баклажана, больная печень, угрюмый нрав (она овдовела еще до его рождения), она некрасива. Нет. Она красива, я несправедлива, люди говорят: «Красавица Ева Бранлонг», — и Жан находит, что в ней есть изюминка: изящные голени, тонкие щиколотки (в краю, где у всех либо бревна, либо студень с прожилками варикозных вен, красивые ноги не останутся без внимания). Линия ее бровей словно нарисована тушью. Но я не замечаю ее красоты, вижу только желчь и взгляды, которые она на меня бросает. За столом она сидит на стуле боком, нервно потирает ладони, и во все время обеда с громким хрустом грызет сухари — «хрум-хрум-хрум», я зову ее Ева Хрум-Хрум, Жан не знает, он бы этого не одобрил, хотя сам без всякого стеснения насмехается над ней, считает, что она уж слишком его ревнует ко всем и вся, прозвал ее Мамаша Антураж, она над этим смеется — смеется только ради него. Она и его донимает. Дай положу тебе добавки. Иди спать, у тебя круги под глазами. Ты устал. И мне: оставь брата в покое! На этот раз она меняет пластинку. Шепчет то ли с болью, то ли с угрозой: