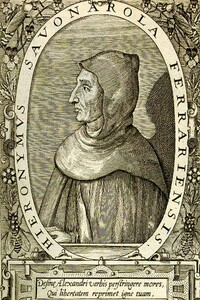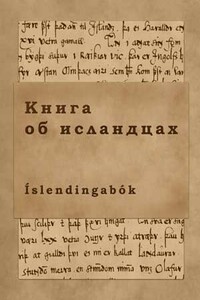Роман о Лисе | страница 11
Привычность и «маниабильность» (удобоупотребляемость) образов животного мира в качестве обобщенных заменителей образов людей сделали сказки и басни о животных достоянием всех литератур и — неизбежно — неразрешимым вопрос о приоритете греческой или индийской традиции в распространении этого жанра. В самом деле, мы находим фрагменты животного эпоса и в Древней Греции, и в Древней Индии, причем письменной его фиксации непременно предшествует достаточно длительный период устного бытования. И в Греции, и в Индии животный эпос неизменно тяготеет к басенной форме, т. е. форме житейского поучительного примера. Иногда совокупность таких басен организовывалась в форме обрамленной повести (например, индийская «Панчатантра»), иногда же такой организации не происходило (басни Эзопа и его последователей). Для нас не так уж и важно, родилась ли животная басня в Шумере или Вавилоне, в Греции или Индии. Существеннее не место рождения, а тот ареал, где басенная традиция приобрела достаточно развитые формы, чтобы затем начать свой путь по странам и континентам. Если Бенфей безоговорочно верил в индийское происхождение всех сказочных и басенных сюжетов, то в нашем веке подобная точка зрения имеет уже не очень многих сторонников. Вместе с тем роль Индии бесспорно огромна. Как писал И. Левин, «значение Индии в отношении басни не в приоритете сюжетов (как полагали ученые еще в прошлом веке), а в том, что басни, еще до нашей эры попавшие туда через Малую Азию, вероятно и через Иран, с Ближнего Востока (в особенности из античной Греции), были собраны индийцами в большие своды»[14].
В Древней Индии место лиса как персонажа-трикстера неизменно занимает шакал (в «Панчатантре», «Хитопадеше» и т.д.). Но это вряд ли что-либо меняет. Важнее отметить, что в индийской повествовательной традиции нет устойчивого мотива вражды лиса (шакала) и волка. Нет этого мотива и у Эзопа. Он появляется позднее, и его появление, как нам представляется, связано с возникновением протосюжета «Романа о Лисе».
Видимо, решающим здесь было постепенное видоизменение трактовки образа волка. Согласно целому ряду мифов, волк считался тотемическим животным и почитался как божество войны. Поэтому он воспринимался как предводитель боевой дружины и вождь племени, что характерно для широкой индоевропейской традиции[15]. Отсюда — нередкое переодевание вождя племени и военачальника в волчью шкуру, присоединение к имени «волчьей» клички (например, грузинский царь Вахтанг Горгослани, т. е. «Волкоглавый») и т.п. Вместе с тем поверья многих народов связывают с волком мотив оборотничества, отношений с нечистой силой, что превращает волка в какой-то мере в хтоническое божество. Так, в скандинавской мифологии конец света связывается с появлением гигантского волка, а древнеисландское божество Один обычно фигурирует в сопровождении воронов и волков (клички последних — Гери и Фреки — переводятся как «жадный» и «прожорливый»), связанных с идеей смерти. Волк становится представителем царства мертвых, и культ его с особой полнотой реализуется в погребальных обрядах