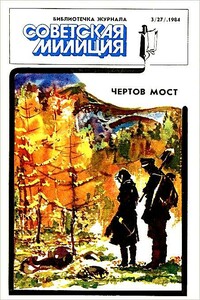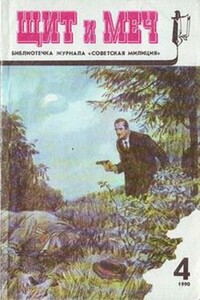Кайнок | страница 36
Чем дальше, тем больше и больше не нравилась Корнею Павловичу эта история. Какие уж шалости и баловство. Несколько раз он порывался перебить Ситко и задать уточняющие вопросы, но ровный диктующий голос не допускал этого.
— Мы решили подождать до конца уроков. Школа гудела… На третьей перемене наш историк Вера Андреевна обнаружила, что недостает карты европейской части СССР и политической карты мира. Остались планки, а карты — аккуратно вырваны… Это переполнило чашу нашего терпения. По нынешним временам карты не достать ни за какие деньги. Я позвонила вам. Но вас не было. Через час я снова звонила. Только в третий раз застала. Так как нам быть?
Пирогов прошелся по кабинету.
— Плохо, что я узнаю об этом последним. Это раз. Во-вторых, — что об этом знает вся деревня. Надо было позвонить дежурной и сообщить.
— Мы надеялись, что разберемся сами. Ведь задета честь школы.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Осмотр показал, что преступник проник в неотапливаемую часть школы через окно, прямо в тот класс, где лежал хлеб.
Пирогов распорядился официально допросить завхоза Сидорову, учительницу Федорову и завпроизводством пекарни Малетину, которой принадлежала идея выдать хлеб сразу на два дня. Хотел он того или не хотел, но обстоятельства складывались так, что двое из трех могли оказаться а сговоре. Против Малетиной был дополнительный факт: ее опасения, что не будет дров и паек придется выдать тестом, не подтвердились, в магазинах выдавали по карточкам печеный хлеб. Завпроизводством должен быть более информированным о делах и ближайших перспективах своего цеха.
Так рассуждал Пирогов. Но у него не выходила из головы история с картами. Тут было нечто непостижимое, не имеющее прецедента в его практике. Бесценная для школы карта мира, да еще в половинчатом виде не могла быть ходовым товаром на рынке военных лет, хотя тот и славился неохватной пестротой: от пропахших нафталином подвенечных бабушкиных платьев и туфель до ржавых навесов и гнутых, идущих по второму кругу, гвоздей.
Карты в печальной истории школы имели какой-то особый, даже зловещий смысл.
«Ты становишься болезненно подозрительным. Это плохо. В карты могли завернуть хлеб», — рассуждал Пирогов, возвращаясь домой. Последнее время он привык обращаться к себе, как к постороннему, даже приловчился спорить, переубеждать одного из двух, ютившихся в нем.
«Хлеб был отлично упакован в мешок, — возражал Корней Павлович. — Для того чтобы ввести в заблуждение нас, создать видимость, что хлеб обнаружен случайно, хватило бы фуфайки, питьевого бачка, наконец, скатерти».