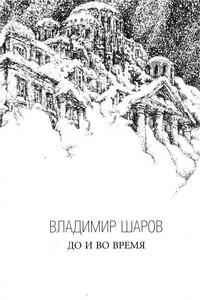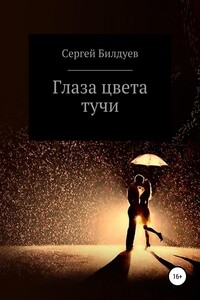«Мне ли не пожалеть…» | страница 66
Первое радение в ее жизни было 23 июля 1913 года, и после него она общалась с эсерами очень мало. Едва попав к хлыстам, она поняла, как давно этого хотела, как давно об этом мечтала. Ей было у них легко и просто, будто именно сюда она и шла всю жизнь. Стоило ей переступить порог их корабля, она уже знала, что она одна из этих женщин, одна из хлыстовок, и она заговорила, словно наконец вернулась домой. Она стала рассказывать им о своих странствиях и о своих мучениях, о похоти, вечной ее похоти, что раз за разом сбивала ее с истинного пути. Она говорила им, что, несмотря на замужество, чиста, осталась чиста, но заслуга в этом не ее, а ее мужа, Крауса, который праведен и думает о спасении рода человеческого. Она говорила о том, как слаб человек и как невыносимо трудно ему противостоять искушению, как мучает его собственное тело, данное ему Богом единственно наказания ради.
Так было всякое радение. Она исповедовалась им и плакала, молила о помощи и о снисхождении и кружилась, кружилась, пила взахлеб духовную радость. Потом вместе с другими она падала в изнеможении, лежала, отходила, дальше снова подымалась и снова, кружась, как и они, во все легкие кричала: «Плотей не жалейте, Марфу не щадите!» До рассвета она умерщвляла, изнемогала, отбирала силу у своей плоти и только тогда чувствовала освобождение – похоть оставляла ее, отпускала.
Устав от ночной пляски, на следующий день она была томна, бледна, до вечера не могла заставить себя встать и проводила весь день в постели: то дремала, то просто без сил лежала. Но душа ее была полна умиротворения и тихой радости. Скоро это сделалось ей совершенно необходимо, без еженедельных радений она бы и вправду сошла с ума; постепенно хлысты к ней привыкли, стали считать как бы своей.
Отец этого уездного учителя некогда был главой общины хлыстов, прямым потомком того, кого хлысты считали Богом Саваофом. Но сам он очень рано ушел из общины, кончил Московский университет и стал в тех же Кимрах учить детей. Подобно Бальменовой, он любил петь, мечтал об оперной карьере (у них вообще было много общего), но с этим ничего по разным причинам не получилось. И он, вернувшись в Кимры, стал преподавать здесь математику. К его собственному удивлению, это доставляло ему немало радости, особенно он был доволен тем, что ученики совершенно искренне полюбили его предмет, хотя никогда прежде математика не была у них популярна.
В общине после смерти его отца, когда он отказался ее возглавить, это долго всеми осмысливалось и понималось: смерть Господа и отказ его сына стать Богом живым – прерывание линии живого Бога. Смерть его отца – окончательная смерть Бога, окончательная оставленность человека Богом. Не зная, куда идти, они проплутали несколько месяцев и, не найдя ответа, с удвоенной энергией, в то же время изобретательно и хитро, принялись отваживать его от прежней жизни.