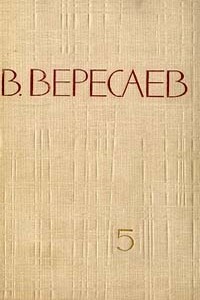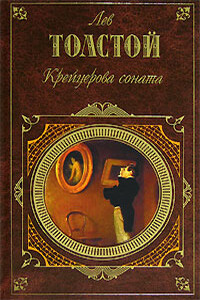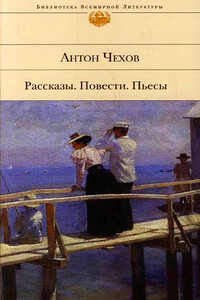Том 1. Повести и рассказы. Записки врача | страница 40
Писатель разбивал представление о коротком рассказе как о жанре, не позволяющем широко и полно отражать все многообразие мира, жанре ограниченном, а потому второсортном. «Не-выдуманность» миниатюр при огромной их емкости и силе типизирующего заряда позволила В. Вересаеву из летописца русской интеллигенции стать летописцем революционной эпохи. Пусть каждая из них – только «короткая заметка», только «кирпич», из которых писатели обычно строят высокое здание повести или романа, но, объединенные вместе, они составили целостную картину жизни, проникнутую единой авторской идеей, картину всестороннюю и, если хотите, эпическую.
Смерть оборвала работу писателя над созданием единого ансамбля из более чем двухсот «невыдуманных рассказов». В. Вересаев успел систематизировать первые десять главок-разделов, включающих около ста пятидесяти миниатюр. По этим десяти разделам можно безошибочно судить об общем идейно-композиционном замысле автора, о весьма интересном и глубоко продуманном принципе расположения рассказов в книге.
Первые три главки цикла – нравы привилегированных слоев общества старой России: галерея «уродов прошлого», тех, кто калечил людей духовно и физически, и тех, что сами искалечены моралью царской действительности. Это и «не такой подлец», считающий вполне разумным собственное горе лечить чужими страданиями, и молодой писатель, в целях изучения психологии устраивающий гнусный эксперимент с любимой девушкой, и «богатый сибирский золотопромышленник», в ослеплении злобы истязающий собственную дочь. Писатель пока главным образом сосредоточивает свое внимание на внутреннем, психологическом облике этих душевно опустошенных и умственно убогих людей. О причинах такого разложения личности он здесь говорит скупо, но авторская точка зрения уже достаточно ощутима. Внешне забавный, а по сути своей страшный рассказ «парикмахера по собачьей части» прямо указывает на корни зла: они в классовом неравенстве, очи в бессовестной эксплуатации бесправных мира сего. «Вот какие бывают графини! Прислуга умирай у нее, ей дела не будет… А для паршивой собачонки все готова делать!..» – так заканчивает свой рассказ герой, объясняя этим «всю дурость Петербурга».
После третьего раздела идет резкое углубление социальных мотивов в рассказах. В главе четвертой писатель показывает тех, на чьих спинах держится благополучие малых и «больших негодяев», – показывает народ, крестьянство. Темнота, религиозный дурман не позволяют народу единым фронтом восстать против «дурости Петербурга». Но вместе с тем писатель отмечает природную моральную крепость простых тружеников: жизнелюбие не оставляет бедноту даже в моменты самых тяжких горестей («На пожарище»).