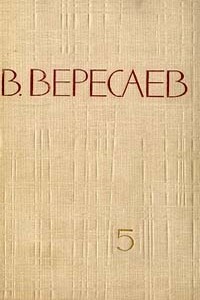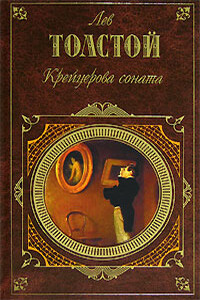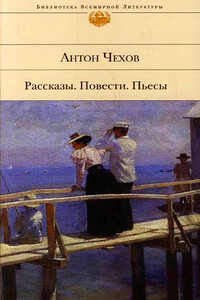Том 1. Повести и рассказы. Записки врача | страница 39
В «Невыдуманных рассказах о прошлом» строгость В. Вересаева к слогу достигла высшей меры. Образцом и учителем безраздельно стал Пушкин, экономность и емкость фраз у которого восхищала. «Я не знаю ни одного другого поэта в мире, который столько сумел бы вложить в молчание многоточий», – писал В Вересаев в черновых набросках «Над Пушкиным» (1942–1943 годы).
В цикле он прямо следует традициям пушкинской прозы с ее короткой фразой, экономностью в образах, резким повышением удельного веса глагола. Только, пожалуй, язык В. Вересаева еще более аскетичен, фраза доведена до телеграфной краткости, и состоит она по большей части чуть ли не из одних глаголов, отмечающих поступок и действие героя; и в языке отразился общий принцип «Невыдуманных рассказов» – лаконизм – требовал раскрытия характеров героев в действии, без помощи авторского «комментирования» происходящего, как это бывает в драме. «Пришла в собор. Софийский собор открыт для посетителей целый день Димка ходила, смотрела, садилась отдохнуть, опять ходила. Никто не являлся. Она с утра не ела. От голода и пережитого волнения начала кружиться голова. Упадет в обморок, обратит на себя внимание… Всю силу воли направила на то, чтоб не упасть…» («Два побега»). Ни слова о внутреннем состоянии героини после побега из тюрьмы, и в то же время нервное возбуждение Димки ясно передано ее поведением.
Будучи решительным врагом словесных «вычурностей и кривлянья», при всей строгости к языку В. Вересаев, однако, чужд пассивному отношению к слову. Его забота о развитии литературного языка сказывалась не только в настойчивых поисках в народной гуще образных словечек и оборотов, она проявлялась в отыскивании лаконичных языковых форм. Это право он страстно защищал в оставшейся неопубликованной статье «О художественных редакторах» (март – апрель 1941 года). В ней он спорил с горе-редактором, который «со строгостью учителя, твердо усвоившего все правила школьной грамоты… следит за тем, чтобы все было написано „как принято“». И особенно возмущала писателя редакторская правка по принципу – «Ничего нельзя писать сокращенно»: «Очевидно (вставлено: что) он их предупредил». «Семен послал в дивизию телеграмму (вставлено: о том), что Туз – бандит. Туз перехватил (вставлено: эту) телеграмму». Статья не была следствием минутного раздражения неудачной правкой «невыдуманного рассказа» «Туз» в редакции журнала «Тридцать дней». Спор был глубже. В противовес горе-редактору В. Вересаев стремился писать именно «сокращенно», настойчиво «стискивал» фразу, доводя ее порой до одного слова В рассказе без заглавия: «В восьмидесятых – девяностых годах в Петербурге на сцене русской оперы в Большом театре пел тенор Михаил Иванович Михайлов. Голос прекрасный» (Разрядка моя. – Ю. Б.). Примеров таких сколько угодно. И в каждом из них выделение одного, двух слов в самостоятельную фразу не случайно. Когда-то В. Маяковский отстаивал «лесенку» и мотивировал графическое дробление стихотворной строки стремлением обратить внимание читателя на какое-то особенно важное в смысловом отношении слово стиха. Тем самым повышалась значимость этого слова, его емкость. У В. Вересаева в основе тот же прием. Миниатюра о теноре Михайлове посвящена одной из загадок искусства: как уживается в человеке талант и недалекость, невежественность. Рассказ, собственно, состоит из нескольких «невыдуманных» фактов, демонстрирующих ограниченность Михайлова. Но они «заиграют», только если читателю будет ясно, что связаны с незаурядным человеком. Иначе потеряется волновавшая писателя тема курьезов искусства, иначе тема низведется до плоских анекдотов. Писателю важно поэтому сразу же подчеркнуть, что Михайлов – талант. Можно было бы пространно описать его великолепные вокальные данные, а можно было сделать то, что сделал В. Вересаев, – в самом начале рассказа дать фразу в два слова: «Голос прекрасный». Графически выделенные, они обязательно обратят на себя внимание читателя и сохранятся в его памяти. Так восполняется краткость.