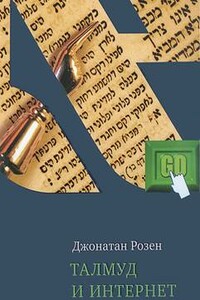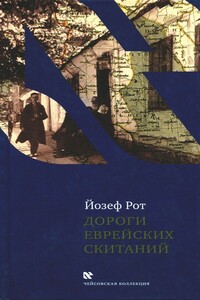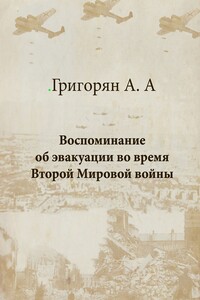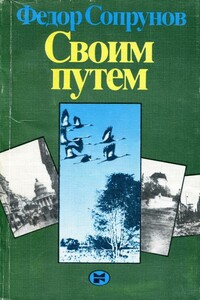Мой век | страница 65
Хорошо, что ты написал мне относительно денег. Ты знаешь, ведь я, даже с тобой, не люблю говорить на эту тему, но сейчас я вижу, что без твоей помощи не протяну. Те, что ты оставил, когда был в Москве, я еще не трогала. Я думаю, что мне будет довольно 300–350 рублей. Не урезай себя, не экономь слишком.
Славный ты мой, родной Марочка, извини за очень сухое письмо. Я сейчас полна всевозможных сомнений, это очень тяжело. Крепко, крепко целую тебя.
Геда.
Самый страшный месяц был октябрь. Мы получили сообщение, что немцы начали бомбить Куровской район — там, где детский сад. Нам объявили: в связи с обострившейся обстановкой в Куровском районе детей везут в Москву; у кого есть дети — ждите, к десяти вечера машины должны подъехать. Стемнело уже, мы, мамы, собрались у завода — тягостное ожидание. Десять часов вечера, одиннадцать, двенадцать — все ждут… Час ночи, Москва черная — ни одного огонька, вдалеке бомбежка. Среди родителей нарастает паника. Только во втором часу ночи начали подъезжать машины. Шофера рассказали, что дорогу бомбили и они поехали окружным путем, через лес, застряли в болоте — еле выбрались. Мы разобрали детей и пешком пошли домой. Спать легли на одну кровать — дети по мне соскучились. Утром нагрела воды и помыла детей в тазу.
Теперь я ходила на работу с детьми. Нет худа без добра: детсадовские дети вели себя на работе спокойно. Сотрудников осталось мало, но столовая еще работала — шикарная столовая была по тем временам, я сама ее проектировала. Мне выдали карточки на детей, и мы втроем ели в заводской столовой. Что в городе творилось, я не знаю — Барабанный переулок тогда был окраиной Москвы. Раньше во время бомбежек я оставалась дома — за себя не страшно. Теперь, с детьми, когда объявляли тревогу, мы прятались в метро Электрозаводская. Обычно это было вечерами или по ночам. Там на полу приходилось и спать. Однако бомбежки стали реже — наши научились подбивать немецкие самолеты, и те редко решались залетать в Москву. Ко мне подходили и спрашивали: «Геда Семеновна, вы будете уезжать?» А я боялась ехать — помнила, как мы, дети, остались в поезде одни, когда уехали из Харькова, — и не решалась в военное время ехать одна с двумя детьми. Сотрудница мне написала: жилья нет, всех расселяют в бараки, оставшиеся от заключенных, не езжай с детьми, подожди.
Пока завод работал, я чувствовала опеку. Потом закрыли столовую. У меня еще оставалось полбанки сливочного масла. А Вадим масло не ел, каши не ел — ничего клейкого. Если я варила манную кашу, он стоял надо мной и говорил: «Мама, только без комочков!» Манки уже не осталось, я отоваривала по карточкам хлеб. Приехал папа и сказал: «Геда, мои все уехали — и Дора и Любушка. И Шурочка с ними. Я тут из-за тебя торчу. Надо ехать — скоро в Москве не будет еды». Из нашего дома многие уехали, половина окон была заколочена. А я все ждала.