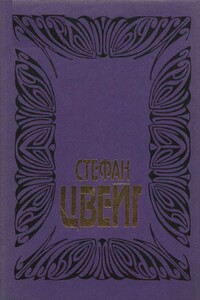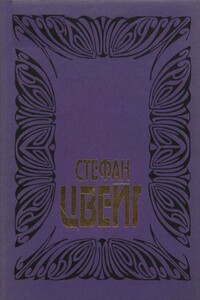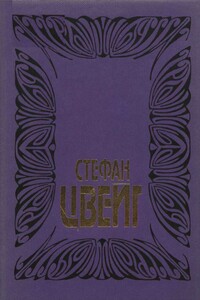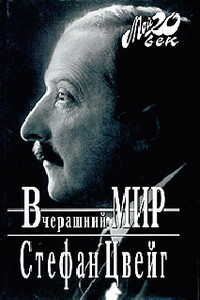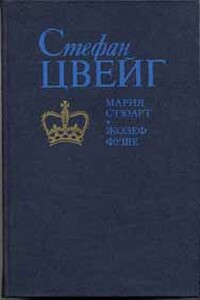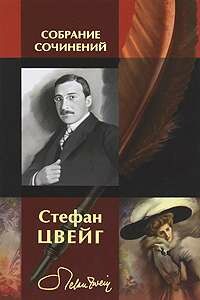Стихотворения; Исторические миниатюры; Публицистика; Кристина Хофленер: Роман из литературного наследия | страница 20
Себя Лев Толстой представил в прозрачно автобиографическом образе Николая Ивановича Сарынцова, и конечно же трагедию нельзя принимать как художественный вымысел. Несомненно, создавая ее, Лев Толстой искал пути разрешения противоречий, перед которыми его поставила жизнь. Но ни в этом произведении, ни в своей жизни (ни в 1890 году, ни десятью годами позже, в 1900 году) Толстой не нашел в себе сил выбрать форму разрешения этих противоречий, мужества завершить жизнь в согласии со своим учением. И из-за этой резиньяции воли, покорности своей судьбе художник так и не завершил драму — герой совершенно растерян, он простирает руки к Богу, умоляя небесного отца заступиться за него, покончить с раздвоенностью его личности.
Последний акт трагедии Толстой так и не написал, но — а это намного важнее—он пережил его. В последние дни октября 1910 года колебания души, терзавшие писателя четверть века, завершились кризисом освобождения. После нескольких чрезвычайно драматических столкновений Толстой уходит из семьи, уходит как раз вовремя, чтобы найти ту прекрасную и идеальную смерть, которая освятит его судьбу, даст ей совершенную форму.
Ничто не кажется мне более естественным, чем присоединение прожитого, пережитого писателем конца трагедии к ее написанному фрагменту. Это, только это пытался я сделать, соблюдая максимальную историческую достоверность, храня глубокое благоговение перед фактами и документами. Я не настолько самонадеян, чтобы считать себя способным завершить этим эпилогом исповедь Льва Толстого, я не дописываю произведение, нет, я просто хочу служить ему. Мою попытку не следует рассматривать как завершение, это самостоятельный эпилог незаконченного произведения, эпилог незавершенного конфликта, предназначенный единственно для того, чтобы дать незаконченной трагедии торжественный заключительный аккорд. И если это удалось, то задача решена, усилия потрачены не зря.
Если этот эпилог пожелают поставить на сцене, следует иметь в виду, что между четвертым актом драмы «И свет во тьме светит» и этим эпилогом лежат шестнадцать лет. Это должно быть видно по внешнему облику Льва Толстого. Образцом могут служить прекрасные портреты последнего года его жизни, особенно тот, который сделан во время пребывания писателя в монастыре (Шамардино) у сестры, а также его фотография на смертном одре. И рабочая комната во всей своей потрясающей простоте должна быть воспроизведена исторически точно. С чисто сценической точки зрения я хотел бы, чтобы этот эпилог (где Толстой не скрывается более за образом своего двойника Сарынцова) шел за четвертым актом фрагмента «И свет во тьме светит» после относительно большого антракта. Самостоятельная постановка эпилога представляется мне нецелесообразной.