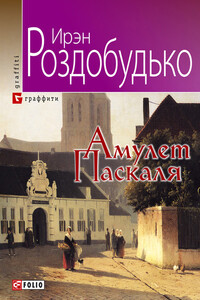Кабы не радуга | страница 105
Кино отличается от реальности тем, что оно
всегда завершается где-то так через два часа
после начала сеанса. В фильме предрешено
все – любая внезапность, трагедии и чудеса.
Каждая сцена имеет как минимум пять
дублей; в реальности нет вариантов, она
однозначна, она не повторится опять,
а пленка стрекочет, напоминая жужжание веретена.
Можно ее оборвать или назад отмотать —
и нить сюжета потеряна. И снова обретена.
Развозят копии по сельским клубам, по городским
дворцам культуры, санаторным и заводским.
Есть во что упереться глазам людским.
Все равно – про войну или сказка про козу-дерезу —
есть над чем посмеяться и платком утереть слезу.
Слеза продавщицы сползает из уголка
левого глаза улиткой по беленой щеке.
Спасает дочку разведчика сын полка.
Боевые припасы по стойке смирно в тяжелом ящике.
Снаряды, словно солдаты, построились в ряд.
Скоро их забьют в пушечные стволы.
И в самое сердце врага направится каждый снаряд.
А люди домой вернутся и усядутся за столы.
Столы накрыты клеенкой, чаще потертой. На ней —
посуда второго сорта, того же сорта еда.
Осень кончается, как кино, без особых затей:
ночью выйдешь – а лужи подернулись корочкой льда.
"Воронцовского дворца белые колонны…"
Воронцовского дворца белые колонны.
Подрастают деревца, укрепляя склоны.
Сын ответит за отца и его законы.
Жаль, что своего лица не имеют клоны.
Вот и Пушкин на посту бронзовеет телом.
От каштанов за версту пахнет новоделом.
Слева лев и справа лев – мраморных в избытке.
Каблучки прекрасных дев щелкают по плитке.
Старый город сел на мель или лег на нары.
Были б средства – будет цель без небесной кары.
Вот стоймя стоит отель, вот кафе и бары,
вот расстелена постель для влюбленной пары.
Все исчезнет без следа, вероятно, вскоре —
размышляешь иногда о подобном вздоре.
Нам и горе не беда, и беда не горе.
Тихо плещется вода, образуя море.
"Шла сухорукая девка с утра до рынку…"
Шла сухорукая девка с утра до рынку,
в здоровой руке несла со сметаной крынку,
а на душе тревожно и злобно, что страх, то мрак.
И, учуяв мрак, увязался дорогой за ней нечистый,
что хорек, узкоглазый, черный, пушистый,
в крынку – скок, сметанку выел, распух, хочет вылезти —
а никак.
Смотрит девка – в крынке рожки, копытца, зубки,
глаза-угольки, дух табачный, как у деда из трубки,
страшно крынку нести, а бросить, известно, жаль.
Только вот идет ей хилый монашек навстречу: "Что ты
вся скукожилась, нет ли страха или какой заботы?
В чем забота твоя? Поведай свою печаль".
Постоял, послушал, потряс седою бородкой,
Книги, похожие на Кабы не радуга