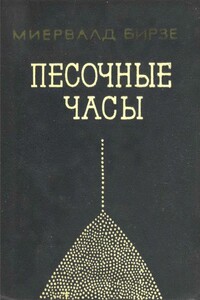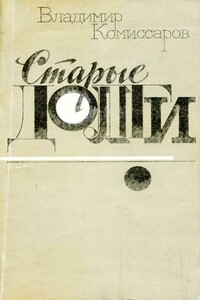Его любовь | страница 62
— Шнель! — орали надзиратели и били палками. — Быстро!
Возможно, к вечеру их заставят закончить сооружение печи. Значит, намереваются уничтожить или завтра утром (это было бы еще ничего: все же можно попытаться уйти), или сегодня, сразу после вечерней проверки, — тогда верная смерть.
А фронтовой гул так хорошо уже слышен. Узники тайком передавали друг другу, что наши вроде бы уже у самого Днепра, форсировали его севернее Новых Петровец, и фашисты повсюду драпают без оглядки.
Федор сказал:
— Нервы в кулак! Сегодня печь не должна быть закончена. Делать и… и не делать.
Следовало тянуть время, но так, чтобы охрана не заметила. И Микола носил дрова, едва передвигая ноги. Будто бы из последних сил. Липкие сосновые бревна запахом живицы так напоминали Ирпенский лес. Медленно тащил дрова — сухие, добротные; должно быть, сам Топайде постарался. Хотелось, как и в любой другой день, чтобы поскорее наступил долгожданный вечер, приносящий черпак теплых помоев и ломтик эрзац-хлеба, а главное — чтобы поскорее наступила ночь, которая решит: жизнь или смерть.
И в то же время хотелось, чтобы этот день, серый, тревожный, каким бы он ни был, тянулся подольше, этот холодный и хмурый осенний день. Ведь вполне возможно, что это п о с л е д н и й день в его короткой, слишком короткой жизни.
Звеня кандалами, носил он дрова, укладывал полено к полену. Не поднимал глаз, не озирался вокруг, молчаливый и мрачный. Но когда с высоты вдруг донеслось извечно печальное курлыканье, вздрогнул.
Журавли…
Задрал голову и, прищурившись, увидел знакомый клин. Как скорбные слезинки, роняли журавли свое тихое прощальное «курлы-курлы».
Прощаются! С опустошенной врагом землей и с ним, простым украинским парнем, который сейчас искренно завидовал свободным птицам. Прощаются не на зиму, как всегда, а навеки…
Курлы-курлы…
А может быть, это и не прощанье, а зов к жизни?! Надо выжить, надо жить!..
Микола скорее ощутил, чем заметил позади себя зловещую тень конвойного. Торопливо нагнулся, поднял горбыль, потащил его к печи. И снова принялся укладывать дрова: полено к полену, ряд в ряд. Суховатый стук. Словно доски к собственному гробу.
Неожиданно стемнело. Здесь, в яре, всегда смеркалось внезапно и раньше, чем наверху. День угас сразу. Охрана засуетилась. Громче зазвучали окрики, чаще посыпались удары, бесновались, захлебываясь от злобы, собаки, давились на туго натянутых поводках, танцуя на задних лапах.
И, хотя последняя печь не была завершена, узников согнали в колонну по пять человек — как всегда. Внимательно пересчитали, скомандовали трогаться и вдруг… приказали петь.