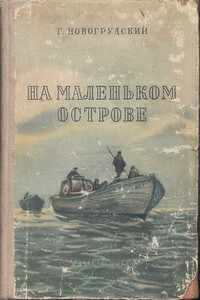Билет до Луны | страница 22
— Чили, имей в виду, — предупреждал Аким. — Нам уже по четырнадцать, и мы не детдомовские. На все машины не кидайся. Стой тут. Я тебе знак дам — подойдешь. Увидишь авто с синими номерами — ныряй в кусты.
Я принимал его историю на веру, как и взрослые, если среди них появлялись любопытные. А было ли так на самом деле? Я не знал. Аким молчал о своей семье.
О самом Акиме в детдоме ходили легенды. Намекали на какую-то связь со взрослым криминальным миром, а кто-то говорил о том, что он неизлечимо болен. Девчонки трепались, что ему нужна какая-то операция на сердце, якобы они слышали из разговора медички с воспитателями, что ждут квоту на лечение. Я спросил у Акима, почему он согласился меня взять с собой. Сережка сказал, что напарник не помеха, а я со своим умением держать язык за зубами и не звонить по углам — напарник хороший. К тому же четыре глаза и четыре руки лучше двух. Работается быстрее.
Обычное утро сменилось обычным днем: уборка группы, футбол, скучные летние мероприятия. Детдомовские будни, пресные, как мое нелюбимое блюдо — рис с вкраплениями красноватой рыбы. Невкусно. Рис, пахнущий рыбой. Сто раз задавали вопрос: зачем в рис подмешивают рыбу, нельзя ли класть ее отдельно? Повара говорили, что это блюдо значится в спущенном сверху меню. А мне кажется, что просто так было легче унести рыбу домой. Себе — источник фосфора, нам — рыбный запах. Как говорится: получите ваш хвост от селедки. Я дорисовал простым карандашом портрет Вальки, который она собиралась отослать маме. Сидеть ее маме оставалось около трех лет. Валька ждала выборов и втихаря молилась об амнистии для мамы. После выборов всегда объявляют амнистию.
День сменился обычным вечером. Пришли сторож, ночная нянечка, мывшая ночами туалеты и коридоры нашей подлодки, и дежурный воспитатель. Сторож — высокая дородная женщина — почти сразу ушла спать в свою сторожку, представлявшую собой маленькую отдельную комнату с телефоном. Днем она работала уборщицей на заводе, ночью подрабатывала у нас. Трое ее детей росли сами по себе. Был у нее муж, «безнадега», как говорили наши воспитатели. А попросту — спивающийся человек. Комната сторожа была так мала, что сама сторожиха занимала добрые две трети пространства.
Нянечка, домыв все туалеты и коридоры, отправилась отдыхать на провисший от времени диван в холле младшей девчоночьей группы. Спать на этом диване с ямой по центру было не очень-то удобно: пружины своими стальными щупальцами тыкали то в спину, то в бок. Эта тихая женщина никогда не жаловалась на свою судьбу. Разговаривала почти неслышно, никогда не ругалась на нас, в отличие от ночных нянечек с других смен, не громыхала шваброй и ведрами с красными письменами. Ее единственная дочь училась в школе для слабослышащих. «Мы тут все счастливчики собрались», — как-то пошутила нянечка. Туалеты и коридор она мыла также бесшумно. Ее прозвали ласково Мышкой-Норушкой.