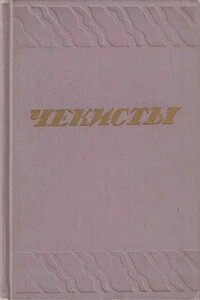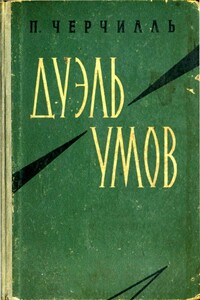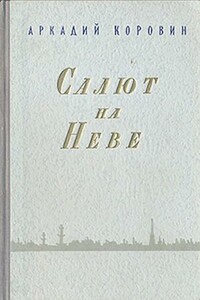Солдаты без оружия | страница 119
Вмешался замполит:
— Кхе-кхе, относитесь как к раневому.
— Но вы же знаете — после всего, что случилось, люди настроены…
Замполит кивнул:
— Война.
На обратном пути Сафронов разъяснил лейтенанту:
— У нас тут женщину привезли с ребятишками. Раненых. Поэтому настроение…
— Мне ж приказано, — словно оправдываясь, повторил лейтенант.
От палатки донеслись громкие голоса; там не то спорили, не то ссорились. Сафронов ускорил шаг.
— Что там такое? — крикнул он издали.
Раненые приумолкли.
— Да тут… Высказали ему, а что? — объяснил Кубышкин.
— Прекратить! — прикрикнул Сафронов. — Несите его в палатку.
В палатке лежали трое тяжелых. Двое молчали, прикрыв глаза, а третий, танкист, с перебинтованными руками, которые он держал над головой, покосился на входящих воспаленными глазами, увидел немецкого офицера и заскрипел зубами.
— В самый конец. Туда, к тамбуру, — распорядился Сафронов.
— А чего… чего его сюда приволокли? — прохрипел танкист.
Сафронов сделал вид, что не расслышал.
— Чего, спрашиваю, эту заразу? — повысил голос танкист.
— Спокойно, — сказал Сафронов. — Так надо.
— Не хочу, я не желаю.
— Потерпите.
— Удушу заразу.
— Люба, — распорядился Сафронов и указал глазами на танкиста, — введите ему пантопон.
А про себя подумал: «Черт возьми, еще охраняй этого фрица. Не хватало нам забот. А ведь действительно придется охранять. Они и в самом деле что-нибудь сделают».
Немца переложили на лежанку, и Сафронов осмотрел его.
Предположение оказалось верным: ранение тяжелое — в живот. Повязка пропиталась кровью, и ее пришлось подбинтовать. Тело было липким, скулы заострились, губы потрескались — все говорило о тяжести состояния. А немец молчал — ни звука, ни стона.
«Наверное, шок, — решил Сафронов. — И вообще, что с ним делали? Вводили ли противостолбнячную?»
— Люба… Этому… пантопон и противостолбнячную на всякий случай. А мне салфетки влажные.
«Относиться как к раненому, — вспомнил он совет замполита. — Вот хочу, а не получается».
Он все-таки обтер лицо раненого салфеткой, смочил ему губы и опять заметил, что немец лежит безмолвно, безучастно, как будто все происходит не с ним, а с кем-то другим, посторонним.
«Шок, конечно», — подтвердил свою мысль Сафронов и тут встретился с глазами пленного. И поразился. Глаза были впалыми, лихорадочными, но взгляд совершенно осмысленный и определенный: «Да, я знаю, что со мною плохо, что я могу не выжить, могу умереть. Но и только. Большего вы от меня не узнаете, не услышите ни одного слова. Ни одного звука».