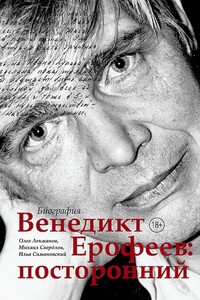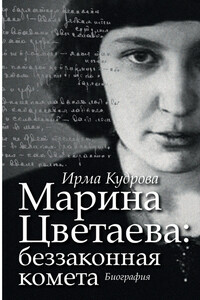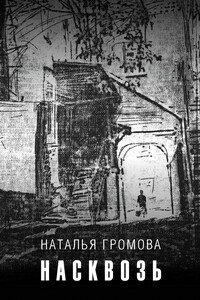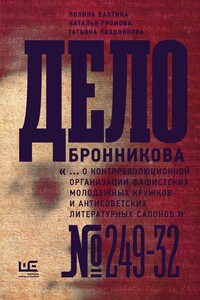Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы | страница 95
Он приехал – красивый и здоровый, влюбленный и нежный… Привез муки, масла, немножко картошки и пшена… мы устроим настоящий роскошный пир…"
А голод достигает невиданных размеров. Квартиры превращены в норы, в которых люди пытаются под кучей тряпья спрятаться от холода. Ужасно хождение за водой к проруби, когда опухшие ноги не слушаются, а тропки превращаются от разлитой дистрофиками воды в смертельный каток.
Сначала умирают мужчины и дети. Потом женщины.
Ольга пишет передачу "Разговор с соседкой", которая выходит в эфир. Чтение стихотворения предваряется сообщением:
"Пятое декабря 1941 года. Идет четвертый месяц блокады. До пятого декабря воздушные тревоги длились по десять – двенадцать часов. Ленинградцы получали от 125 до 250 граммов хлеба".
"Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь", – убеждает она, но сама не верит, что ее стихи могут кому-то помочь:
"1 декабря 1941. Мои писания, мои стихи, даже те, которые заставили плакать командиров одной армии, где недавно читала их, – даже не десятистепенной важности дело для Ленинграда. Они не заменят ему ни хлеба, ни снарядов, ни орудий – а решает только это. Если ленинградцы не будут слышать моих стихов – ничто не переменится в их судьбе… Твоя нужность здесь – самообман и тщеславие. Это говорит мне другой голос, который я считаю фарисейским, но знаю, что он разумен".
Она ошиблась. Ольге удалось то, что вряд ли мог бы сделать кто-то другой: несмотря на советскую риторику, она пыталась говорить с людьми. Именно эти обращенные к сердцам слова были услышаны. Оказалось, что человеческое слово для пытающихся выжить людей имело такую же важность, как хлеб, тепло, вода. Оказалось, что она была нужна уже не только Николаю Молчанову или Юрию Макогоненко – она была нужна Городу.
И все-таки до конца декабря она пытается уехать. "О, только бы Колька продержался, только бы его дотащить до Архангельска и положить в госпиталь. Ведь он у меня главный, самый любимый, и я всем сердцем верна ему, несмотря на Юрку. Я обоим им верна и никого из них не обманываю… Странно, что не ощущаю никакой личной путаницы, и Юра и Коля совмещаются. С Юрой – некий отдых, с Колей все тяготы – двойные для меня – его болезни и страшной войны…" – пишет она 26 декабря 1941 года.