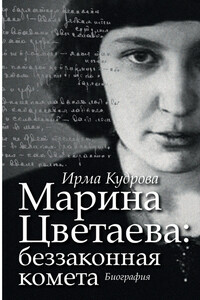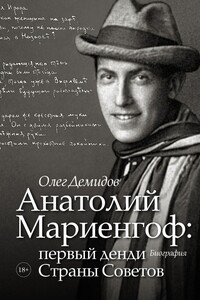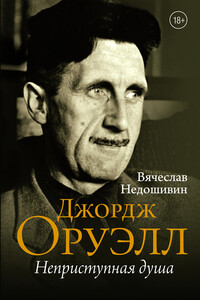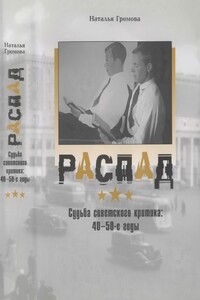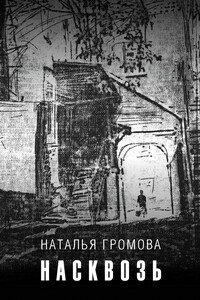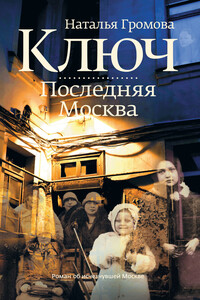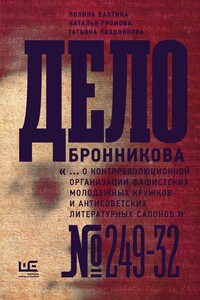Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы | страница 49
На кладбище что-то говорили около могилы, прощались, и вот появился папа с попом и причтом – он хотел отпеть Иру. Ольга с резким криком – Нет! Нет! – кинулась навстречу. Дьяк смущенно сказал папе. – Ну, если мать не хочет… – и они ушли. На могиле поставили не крест, а пирамиду со звездочкой".
Поставили пирамиду со звездочкой…
А через несколько лет у Ольги в дневнике вдруг вырвались слова:
"26 ноября 1938. Если б я верила в бога, то сейчас бы я думала, что он отнял у меня дочь в наказание за ту жизнь, которую я вела, и что наказание – заслужено мною. Боже, я же помню, какая это была мука – ее последняя болезнь, я знаю, что ее нельзя было спасти, что я сделала все, что могла, и все же я виновата, я виновата…"
Стихов, посвященных смерти Ирины, много. Они все войдут в цикл "Память".
Как поэт, в минуты самой глубокой скорби она все отчетливее нащупывает одну из основных тем своей поэзии – преодоление смерти через Память. Она беспрестанно возвращается к воспоминаниям о гибели дочерей, вставляя их в общий текст своей судьбы, и делает это подчас абсолютно беспощадно к себе самой. В описании страданий и мук матери, потерявшей ребенка, проявляется вся та же неистовость и страстность, что отличала ее с юности. Это уже свойство души и натуры.
Мария Тимофеевна перенесла уход внучки еще более мучительно, потому что была одинока в своем горе. Ведь это она растила девочку почти с самого рождения, была для нее всем. Ольга часто обвиняла мать в том, что та неправильно воспитывает ребенка, плохо лечит, но сама то уезжала в командировки, то убегала на завод. Рина – так называла внучку Мария Тимофеевна и в тех же дневниках, где когда-то описывала свои женские горести, вела с ней непрерывный разговор и через десять, и даже через двадцать лет.