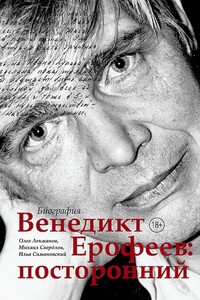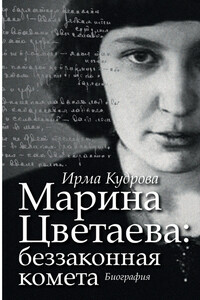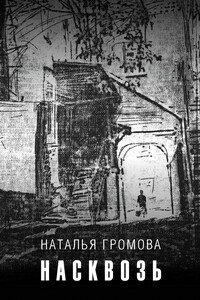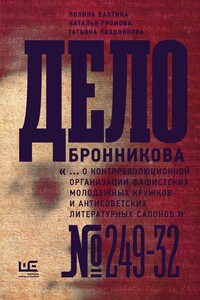Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы | страница 120
Для Ольги Берггольц участие в собраниях, где "разоблачают" Ахматову, было невозможно. Наоборот, она делает все, чтобы помочь ей. В их общем с Макогоненко доме собирается сложившийся в эти годы круг друзей, в том числе Евгений Шварц и Юрий Герман. Сюда часто приходит и Ахматова. "Мы сидели за столом маленькой комнаты, – вспоминал Макогоненко, – в которой весело потрескивал камин и тепло горели свечи. Анна Андреевна всегда устраивалась поближе к камину и зябко куталась в теплую шаль.
Трое из присутствовавших – Анна Андреевна, Ольга Федоровна и Юрий Павлович – были, по словам Евгения Шварца, "достойно" отмечены критикой. За столом царило веселое оживление. О "событии", как о покойнике, не говорили. Евгений Львович иногда подшучивал надо мной:
– А тебя почему не похвалили? Об Ахматовой писал, стихи ее публиковал, доклад о ее творчестве делал, что говорил, помнишь?
Анна Андреевна улыбнулась и, поддерживая шутку, сказала:
– Да, уж совсем не ругал…
– Вот-вот, – продолжал Шварц, – а сидишь бедненький, критикой не замеченный…
С иронией Евгений Львович говорил, что критика его никогда не замалчивала. И действительно, его уже в 1944 году начали ругать за пьесу "Дракон". Юрий Павлович отвергал его претензии, ссылаясь на "давность" истории с "Драконом", Шварц, улыбаясь, бодро отвечал:
– Ничего, Юрочка, еще все впереди! То ли узрим, как говаривал Федор Михайлович, то ли узрим!.."[112]
В то же время для Ольги уход в так называемую внутреннюю эмиграцию был неприемлем. Она не желала отъединяться от страны, не желала верить в несправедливый, репрессивный характер действий власти. В 1947 году Ольга жестко пишет о "мании преследования" у Ахматовой: "…она… и всё говорила и говорила, как за ней следят, как дежурит теперь около ее дома какой-то офицер, как Большой дом только и думает, что о ней. Слушать все это было страшно, опровергать – бессмысленно, потому что она, как истый сумасшедший, уже твердо верит в свой бред, а действительность, не скупясь, подбрасывает ей все новый материал. Действительно, какой-то сержантик болтается около ее дома, явно по бабской линии, или служащий Арктического… – "Вот он", – сказала она таким голосом, когда мы, провожая ее, подошли к ее дому, что у меня все оледенело внутри, и я сама – маньячка – подумала, что она права, вопреки всякой логике…"
А за Ахматовой и в самом деле шла непрерывная слежка. Бывший высокопоставленный сотрудник КГБ Олег Калугин приводит в своей книге одно из донесений агента: "Объект, Ахматова, перенесла Постановление тяжело. Она долго болела: невроз, сердце, аритмия, фурункулез. Но внешне держалась бодро. Рассказывает, что неизвестные присылают ей цветы и фрукты. Никто от нее не отвернулся. Никто ее не предал. "Прибавилось только славы, – заметила она. – Славы мученика. Всеобщее сочувствие. Жалость. Симпатии. Читают даже те, кто имени моего не слышал раньше. Люди отворачиваются скорее даже от благосостояния своего ближнего, чем от беды. К забвению и снижению интереса общества к человеку ведут не боль его, не унижения и не страдания, а, наоборот, его материальное процветание", – считает Ахматова. "Мне надо было подарить дачу, собственную машину, сделать паек, но тайно запретить редакции меня печатать, и я ручаюсь, что правительство уже через год имело бы желаемые результаты. Все бы говорили: "Вот видите: зажралась, задрала нос. Куда ей теперь писать? Какой она поэт? Просто обласканная бабенка. Тогда бы и стихи мои перестали читать, и окатили бы меня до смерти и после нее – презрением и забвением"…