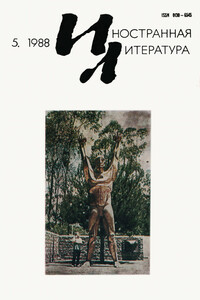Коробочка с синдуром | страница 55
Только и было слышно:
— Рам-рам![46] Ах, какое несчастье случилось с вами, пандит-джи! Надо поскорее очиститься от скверны, совершить омовение да сменить одежду!..
Одна женщина, смуглая, с приплюснутым носом, заступилась за Сону:
— Ведь это же дитя неразумное, махарадж[47]! Ну, разве они виноваты?
— Ступай, ступай! Убирайся отсюда! — задыхаясь от ярости, крикнул в ответ пандит. — Брахмана учить вздумала, ведьма!
На первой же станции паломники с грубой бранью вытолкали Сону и Барката из вагона.
Уже темнело. Высоко в небе торжественно плыла круглая луна. Неподалеку от платформы мягко серебрился большой пруд, густо заросший белыми лотосами; в льющемся с неба сиянии цветы лотоса и сами казались маленькими лунами.
Баркат и Сона уселись на краю пруда под огромным старым деревом. Каждый думал о своем, и тревожны были их мысли.
Баркат угрюмо сопел. Ребенок, хрипло дыша, ловил ротиком воздух. Сона беззвучно плакала: ее малыш заболел.
Прошло два дня. Ребенку не стало легче. Иногда он начинал хрипеть и так закатывал глазки, что Сона со стоном отчаяния прижимала его маленькое тельце к груди. Ей казалось, будто кто-то безжалостный хочет силой вырвать из рук ее крошку.
— Нет, нет! — лихорадочно бормотала она. — Я не отдам тебя! Не отдам!..
Баркат с нескрываемой злобой поглядывал на нее. Его низкий лоб прорезали угрюмые жесткие складки. Болезнь мальчика означала для него новые убытки. Снова и снова ловил он себя на недобрых мыслях. И зачем только родился этот проклятый ребенок! Это он отнял у него радость, его песни, его беспечные дни, его ночи любовных утех — все, все отнял! Он враг! Враг!.. И пальцы Барката, словно перед смертельным поединком, медленно сжимались в железные кулаки.
Целых четыре дня они не выходили к поездам. Сона не выпускала из рук плачущего, горящего в жару сына. Кончились последние деньги. Хотя есть было нечего, Сона не двигалась с места: она точно окаменела от горя и только крепче прижимала к груди своего малютку. Баркат кипел от бешенства. Надсадный плач больного ребенка изводил его. Целыми днями он без отдыха шагал по берегу пруда, словно хотел довести себя до полного изнеможения. Наконец на пятый день он сказал Соне, что дальше так продолжаться не может. Он попробует что-нибудь раздобыть в соседних деревнях. С самого утра пропадал Баркат и вернулся только поздно вечером — мрачный, пьяный и с пустыми руками. Сона удивленно посмотрела на него, но ничего не сказала. Глаза ее глубоко ввалились, темное, исхудалое лицо показалось ему почти незнакомым. Баркат ожидал, что она попросит есть, но Сона не проронила ни слова. Тяжело вздохнув, он осмотрелся. Лунный свет раскинул под деревьями причудливый узор черных теней. На земле валялась гармоника. Ее впалые меха словно тоже кричали о голоде. И все вокруг стало вдруг мрачным, таящим угрозу. Страшно было глядеть на это бездонное темно-синее ночное небо и на его отражение в тихом глубоком пруде: как две широкие разинутые голодные пасти, грозили они Баркату, и даже безмятежно мерцающие звезды казались ему сейчас тысячами острых зубов. В порыве отчаяния Баркат опустился на землю и, уткнув локти в подтянутые к самому лицу колени, крепко обхватил руками голову. Потом внезапно вскочил и снова зашагал взад и вперед по берегу пруда. В этом судорожном беспрерывном движении он, казалось, хотел обрести избавление от какой-то неотвязной мысли. Но вот он подошел к Соне и, коснувшись холодной рукой ее лба, хрипло сказал: