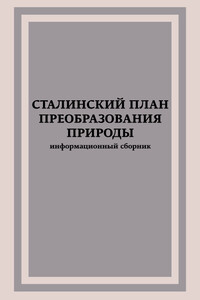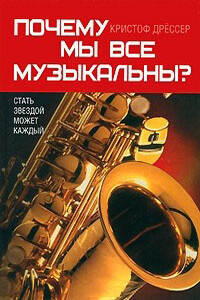Чекисты на скамье подсудимых | страница 22
Цели исследования сформировались под прямым воздействием и влиянием размышлений Кристофера Браунинга о «карателях» как об обычных людях (ordinary теп) и дискуссии вокруг образа «карателей» в публикациях Даниэля Гольдхагена[64]. Также учитывались социально-психологические соображения Гаральда Вельцера и адресованный ему упрек в том, что ему свойственен подчеркнуто антропологический дискурс[65]. Наблюдающийся с начала 1990-х годов поворот в исследованиях национал-социализма к конкретике и эмпиризму[66] повлиял на замысел настоящего исследования в той мере, что в рамках проекта была предпринята попытка в духе Петера Лонгериха рассмотреть соотношение человека и государственной машины, диспозиции и ситуации, центра и периферии, намерения и функции, рациональности и идеологии — как различных аспектов исторической действительности, которые влияют и даже взаимно дополняют друг друга[67]. Однако мы также готовы задействовать традиционный дискурс, если речь пойдет об объяснении феноменов, которые, в конечном итоге, не без основания дают повод к криминализации и демонизации «карателей»[68]. В заключение следует указать на применение компаративного метода: для анализа механизмов и специфики процессов над советскими «карателями» была привлечена соответствующая литература по национал-социалистической проблематике[69].
Исходя из целей и методов настоящего исследования, его проблемных рамок и имеющихся источников, командой историков были поставлены конкретные вопросы для научного анализа.
«Каратели» и механизмы преследования
К какому поколению принадлежали, из какого социального слоя вышли осужденные «каратели»? Каков был их среднестатистический возраст? Национальность?
Почему сотрудники НКВД пошли на «нарушение» социалистической законности? Что способствовало «нарушению»: политический и социальный контекст или скорее «атмосфера» в самих органах НКВД? В какой степени руководство манипулировало кадрами? Что сыграло большую роль — противоправные приказы, подчиненность начальству и социальное давление в самом НКВД или условия репрессивного процесса, основанного на разделении труда между сотрудниками? Имелись ли у них личные мотивы для репрессий и в чем заключался личный вклад «карателей»? Были ли среди них «сомневающиеся» или энтузиасты? Какую роль играли карьерные соображения и материальные аспект, а какую — мировоззренческие установки? Каким образом госбезопасности и милиции было разрешено (практически их подтолкнули к этому) «нарушить социалистическую законность» таким образом, как это произошло в ходе массовых операций? Как это помогает нам решить вопрос о контроле сверху за осуществлением Большого террора?