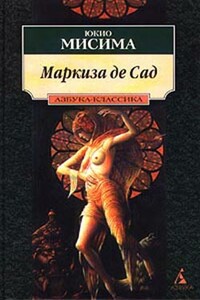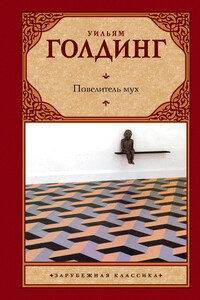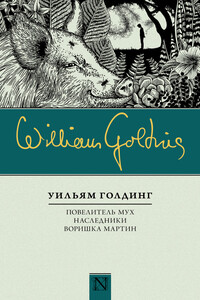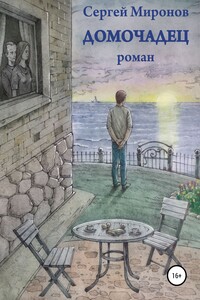Пирамида | страница 40
— Это по поводу пианино, Олли.
— Я же просил прощенья уже.
— Хватит об этом! — Мама весело рассмеялась. — Все прощено и забыто. Ты слушай!
— Мы вот подумали. Чинить его будет долгое дело. Пока клей застынет и прочее. А с этой своей рукой ты еще несколько недель не сможешь к нему подойти, так я полагаю.
— Не тяни, папочка! Вечно ты тянешь!
— Ну вот, а мы тебе пока не сделали подарка, достойного твоих упорных трудов. И мы решили — мама и я: мы отправим пианино в Барчестер, и там его подновят. Одним махом — двух зайцев. Конечно, встает вопрос денег — правда, мама?
— Он всегда встает — деньги есть деньги!
— Но я все прикинул и думаю, мы...
— А если рука у тебя раньше заживет, ты всегда сможешь играть на скрипке, Оливер, ты же так дивно играл, пока не помешался на своем пианино!
— И когда ты приедешь из Оксфорда на каникулы, у тебя будет настоящий инструмент.
Он повернулся к своей тарелке и снова принялся за еду.
— Конечно, — сказала мама, — ты сам понимаешь, оно не превратится в концертный рояль!
— Но лучше оно сделается, — сказал папа. — Там много чего могут. Вряд ли станут делать деревянную раму. Дерево всегда портится. Не знаю, кому оно нужно.
— Может, даже клавиши отбелят.
— Дерево всегда портится. Это из-за климата.
— И подсвечники нам не нужны. Пусть их снимут.
— Металл для звука лучше. У нас металл.
— Ну чего ты, детка? Ну-ну, перестань! Все ведь прощено и забыто!
— Успокойся, старина!
— Это наследственное, знаешь, папочка.
— Покажи-ка нам язык, старина.
— Не надо его дразнить. Скушай свининки, Оливер. Это тебе полезно.
Папа тяжко поднялся и пошлепал в аптеку.
— Ну чего ты, ревушка-коровушка, — сказала мама ласково. — Я же все понимаю, детка. Расти трудно — даже и мальчику. Это наследственное. Характер. Скушай, скушай свининки, детка, тебе сразу полегчает. Знаешь, я помню... Ты не поверишь, Олли... Мы так тобой гордимся, детка, но не можем же мы без конца тебе про это твердить. Вот горчичка.
Папа молча вернулся и поставил возле моей тарелки рюмочку. Опять со слабительным.
10
Кое-как тянулись дни. Миссис Бабакумб по-прежнему одаряла меня своим косым кивком с любого расстояния, вплоть до ста метров. Эви уже не ходила патрулируемой дорогой. Я слонялся по Бакалейной, и надежда моя таяла. Иногда я слышал, как она стучит на машинке в приемной, иногда видел, как она пробегает с работы домой, — и все. Эви меня избегала. Настал понедельник, вторник, среда — она не появлялась на моем горизонте. Мой ужас перешел в стадию непрестанной тревоги. В снах фигурировал новый кошмар, повторяясь из ночи в ночь. Будто я иду по Стилборну, но приговоренный к смерти. И родители тут же, все знакомые тут же, и все согласны со смертным приговором, ибо моя вина, хоть она в сновиденье не проясняется, — непростительна. Просыпался я с радостью, что это был сон. А потом вспоминал Эви.