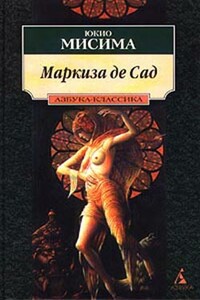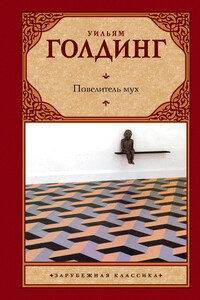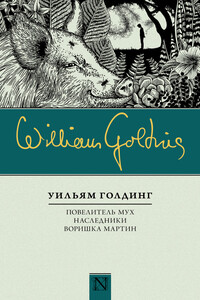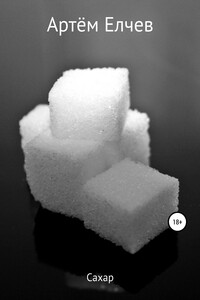Пирамида | страница 37
— На уроке занималась.
— На уроке?
— Ну, ты знаешь. Секретарское дело.
— А-а! Старый Уилмот...
Эви хихикнула и вполне добровольно свернула на нашу тропу. Она сверкнула — или нет, осияла меня, так будет верней сказать — взглядом через плечо, и я пошел за нею.
— Стенография.
— И как у вас пишется «пневмония»?
— Еще чего!
Эви расхохоталась и припустила бегом, пока не запнулась на крутизне.
Деревья сомкнулись. Ветер протиснулся между мной и ее платьем, и нас обоих тучей накрыл запах жимолости. Я шел за нею шаг в шаг.
— В каком смысле — «еще чего»?
— Ну, там не медицина. Вообще.
Она снова расхохоталась.
— Просто он возьмет книгу какую и...
Нам преградила путь куманика. Мой нос был всего в нескольких сантиметрах от ее гривы. Я уже не знал, то ли это путаные привады лета, догоравшего в обступивших нас кустах, то ли запах ее тела. Насчет запаха неясно, но видеть я видел, как это тело шевелится под сине-белым ситцевым платьицем. И собственное мое тело напряглось. Я дернул ее за руку, повернул к себе и крепко поцеловал. Она, хохоча, отдернула губы.
— Нет! Нет! Нет!
Оттолкнула меня, хохоча, сверкая, сияя, благоухая, снова метнулась козочкой по тропе.
— Говорит, наподдаст мне, если не стану лучше стараться.
Я покатился со смеху, вообразив капитана Уилмота, с волчьим оскалом выбирающегося из своего электрического стула.
— Если только он тебя поймает. «Примкнуть штыки!»
— Говорит, мне самой даже понравится.
— Старый педрила! Ты бы сказала отцу!
Эви опять захохотала, тоном выше. Мы сошли с тропы в заросли. Я схватил ее, но, все хохоча, она увернулась и скрылась в кустах.
— Эви? Ты где?
Молчание. Только городские звуки с долины под нами. Я вслепую продрался сквозь кусты, и там она меня ждала — запыхавшись, сверкая. Я обнял ее, она меня оттолкнула обеими руками.
— Нет! Нет! Нет!
Из города летели: очень отчетливый звон медного колокольца и сиплые контуры крика:
— Эй! Эй! Эй!
Эви затаила дыхание. Прямо у меня на глазах под тонким платьицем выскочили на груди две пуговки. Она прижалась ко мне, вцепилась мне в плечи, закрыла глаза.
— Возьми меня, Олли! Сейчас! Возьми!
И — через миг — распластана среди цветов, задрано платье, глаза дрожат, лицо искажено, смеха ни следа...
— Олли! Олли! Сделай мне больно...
Я не знал, как сделать ей больно. Выбивая частую дробь в своем мальчишьем усердии, я тонул, я терялся в сжатиях и растяжениях дыбящегося и опадающего тела. Она не принимала мой быстрый ритм, только долгие, глубокие океанские раскаты, в которых ее муж, ее мальчик колыхался щепкой, не более. И эти океанские раскаты как бы бескостного тела сопровождались метаниями головы — глаза закрыты, наморщен лоб, — будто в мучительном плаванье к дальней, темной, злой и запретной цели. Я был лодчонкой в глубоком море, а море само было стонущей, вражеской, скрытной стихией, требующей, но не жаждущей соучастника. И вот я потерял направление, лодчонку накрыло, поволокло на утес, и тут раздался крик, громкий, пыточный, и я лежал среди бурунов, потерпев кораблекрушение...