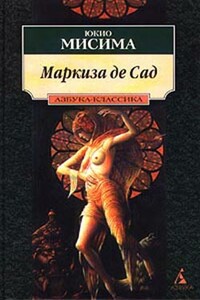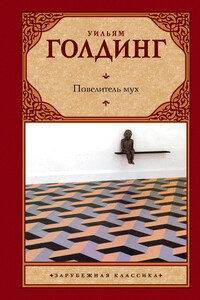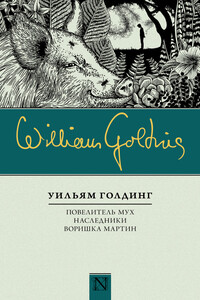Пирамида | страница 27
— Пап, может, тебе чем-то помочь?
Папа рывком повернул ко мне свою тяжелую голову. За толстыми стеклами метнулось изумление. Он дернул себя за седой ус, быстро тряхнул головой, снова отвернулся. Интуиция мне подсказывала, что сегодня у мамы скверное настроение с самого утра. Сев за наше пианино, я старался одновременно не повредить больной палец, не разозлить маму и напомнить о своем существовании Эви. Я побрел в город, видел, как миссис Бабакумб клюнула сержанта Бабакумба возле ратуши, переждал, чтоб она ушла. Когда я в свою очередь поравнялся с сержантом, он поднял взгляд от выбиваемого коврика и мне кивнул. Сомнений быть не могло. Никогда раньше не бывало такого, а тут он кивнул. Я слегка дернул головой, что могло истолковываться и как ответный приветственный жест, и как отмахивание от мухи, и прошел мимо. Я долго стоял в изумлении у букинистического прилавка, изучая его содержимое. Я не знал, что и думать. Я читал названия, какие еще можно было разобрать на потрепанных корешках, какую-то книжку вытащил и полистал. Я ее не видел. Я видел вместо нее поразительный кивок сержанта Бабакумба — будто я ему брат-солдат или собутыльник. Я положил книгу на прилавок, прошел мимо «Лучшей чайной», где шесть кумушек ели печенье, пили кофе и сплетничали, мимо Дугласа Фербенкса перед бывшей товарной биржей и тут остановился, оглядывая с хвоста Главной улицы Старый мост. Можно было успокоиться. С Главной улицы, как ни вглядывайся, нельзя углядеть никого — никакую парочку — у пирса за Старым мостом. Слава тебе, Господи.
На другой стороне Главной улицы показалась миссис Бабакумб с кошелкой, набитой свертками. В своем дежурном сером костюме, в своей серой шляпке. Гигантская фальшивая жемчужина свисала с левого уха. Шла блеклая, улыбчивая, расточая безответные, безадресные кивки. Вот увидела меня. Не замедлила шага. Но склонила голову набок, сверкнула вставной челюстью. Этот кивок, этот оскал она несла добрых пять метров, пока ее не заслонил верзила у фонаря.
Меня вдруг как ошпарило. Я понял в ужасе, чем чревата моя похоть. Я понял и кое-что еще. Ни у сержанта Бабакумба, ни у его супруги не могло быть вспышек маминой дьявольской проницательности. Это все штучки самой Эви. Она меня использовала в качестве громоотвода. С механичностью и проворством, никогда еще мне не дававшимися на пианино, я пробежал в уме всю гамму людских возможностей. Эви в жизни не заполучить Роберта насовсем. Ей его не зацапать. Она не станет и пробовать. Не то напоролась бы на гранитную стену. Но раз ей нравится его мопед и она за свои вылазки платит — ведь платит! — ей нужны оправданья, почему опоздала, почему поздно пришла, почему... В моем случае стена из того же гранита, что и у Юэнов, но не такая высокая. Отнюдь не такая. Даже не такая высокая, например, как стена, отделяющая самое Эви от ошивающихся возле ратуши безработных голодранцев. Для Эви я громоотвод. Для ее родителей — завидный жених. Ох, как небось эти белые пальчики, этот воркующий голосок усмиряли воинственного сержанта, умасливали, убеждали, что у нас дело идет к помолвке. Я откинул волосы с глаз и тяжко вздохнул. Кроме посягательств ее родителей, меня еще терзали догадки, как именно использовала меня Эви. Может, это я задерживаю ее после двенадцати? Может, это я увел машину Пружинки? Так-так, что еще? Чего она еще понавывязывала, рукодельница? Я не сомневался, что в случае надобности она соврет — недорого возьмет. Я и сам могу соврать в случае надобности. И тут уж она нагородит такого! Мне представилось кошмарное видение: сержант Бабакумб у наших дверей тискает треуголку и выпытывает у папы, каковы мои намерения. Я-то знал, каковы мои намерения, и Эви знала. Для семейной жизни они были слишком просты. Я пошел домой, обогнув ратушу с другой стороны, и стал очень тихо играть на пианино.