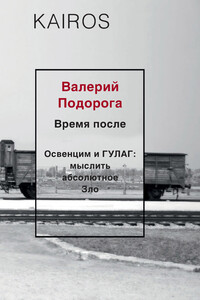Авантюра времени | страница 71
, и от существования или несуществования «мира» (в производном смысле), в котором это сущее существует фактически: «Когда я говорю о Dasien, что его фундаментальная конституция есть бытие-в-мире, я тем самым высказываю, разумеется, нечто, что принадлежит к его сущности (Wesen), однако при этом абстрагируюсь от того, существует ли фактически (faktisch) сущее, обладающее такой сущностью, или нет»[112]. Мир, который принадлежит онтологической конституции Dasein как бытию-в-мире, не является, стало быть, «миром» (в производном смысле), в котором Dasein существует или не существует de facto. Равным образом фактичность этого сущего (Faktizität) не сводится к его фактуальности (Tätsachlichkeit), а его существование (Existenz) как онтологическое определение не означает его действительности (Wirklichkeit) в таком «мире». Но в таком случае мир неким образом удваивается, и тот мир, в отношении которого скептическая проблема не имеет никакого смысла, никоим образом не есть тот мир, который имел в виду скептик, выражая свое сомнение. «Субъективный» мир онтологически правильно понятого субъекта все еще остается «конфигурацией» (Bildung) субъекта, как об этом будет сказано в «Основных понятиях метафизики». Вовсе не случайно то, что редукция, будучи процедурой трансцендентального характера по преимуществу, все еще способна играть роль, пусть незаметную и глубоко скрытую, в структуре фундаментальной онтологии. Ужас остается аналогом эпохе́. Не сумев положительно сформулировать то, что составляет ложную проблему в скептицизме, Хайдеггер, несмотря на свои достижения и революционные интуиции, остается в значительной степени пленником гуссерлевского трансцендентального диспозитива, а стало быть — по крайней мере, отчасти, — пленником диспозитива картезианского и кантовского. Поскольку он пытается освободиться от трансцендентальных положений, не выходя за рамки той проблематики, в которую они вписаны, его понимание бытия-в-мире остается симптоматично двусмысленным.
II
Разумеется, Хайдеггер прав, когда не принимает всерьез скептическую проблему. Однако он не прав в том, что не принимает всерьез те основания, которые должны побудить нас не воспринимать ее серьезно: он просто обходит их молчанием. Поступая так, он по крайней мере до тридцатых годов (а возможно, и в дальнейшем) остается в ловушке пост- или криптотрансцендентальной концептуальности, вместо того чтобы попытаться иначе понять ту открытость миру, которая
Книги, похожие на Авантюра времени