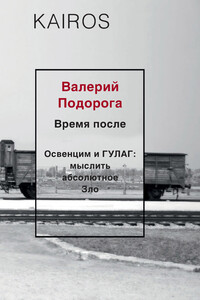и
ни для кого, то событие утраты дорогого человека несоизмеримо для каждого из нас. Ты и я переживаем не одну и ту же скорбь, но каждая скорбь единственна, неповторима, как единствен и неповторим тот, кто ее испытывает, потому что ее воздействие на наше существование, способ, каким она потрясает наши возможности, всякий раз уникальны и
не сопоставимы ни с какими другими. Событие приходит только ко мне, в единственном числе, оно адресовано ко мне и никому другому; а отсюда следует, с другой стороны, что сам я вовлечен в него. Для того, кто переживает событие, его адресный характер связан с особым родом включенности в него: событие приходит ко мне лишь постольку, поскольку я прихожу через него к самому себе, поскольку я сам как таковой, в моей собственной самости, вступаю в игру. Таким образом, феноменология события совершенно неотделима от обновленной феноменологии того, к кому оно приходит и кого я предлагаю здесь обозначать не как
Dasein, а как
Пришествующего. Пришествующий задает ставку в игре событийной герменевтики человеческого существования, где сама человечность человека понимается как безмерная открытость событиям, начиная с рождения, и способность относиться к тому, что к нему приходит, как к собственному, чтобы присвоить это в опыте. Никоим образом Пришествующий не является более условием формальной возможности, субъективной инстанцией, которая по праву предшествует тому, что к ней приходит в событии, и которая как таковая делала бы возможным наступление этого события. Коль скоро событию, как мы видели, свойственно приходить прежде, чем быть возможным, такая предварительная инстанция есть именно то, что исключается самим способом явления события. Скорее, Пришествующий всегда есть событие в момент его прихода — к нему самому, в качестве него самого: прихода исходя из того, что́ к нему приходит. Его единственная сущность выражает себя как опыт, в событийном смысле опыта событий, — и, следовательно, так же как история. Пришествующий имеется лишь постольку, поскольку нечто приходит к нему или нечто происходит с ним: нет субъективности, которая по праву предшествовала бы тому, что с ней происходит, а есть только процесс субъективации, начиная с учреждающего события.
Здесь, кажется, возникает одно затруднение, на котором стоит ненадолго задержаться. Как следует из характеристики взаимосвязей между событием и Пришествующим, на каждом этапе анализа феноменальность события неотделима от самого способа, каким Пришествующий присваивает событие, встраивает его в опыт (или терпит неудачу в этом), т. е. приходит через этот опыт к самому себе: «объективная» и «субъективная» стороны описания остаются структурно взаимосвязанными. Описанию подлежит именно приход события в авантюре Пришествующего, в его приходе к самому себе через события, в отправлении от тех критических точек, которые придают его истории структурированность и строй. Следовательно, событийная герменевтика продолжается в интерпретации самой авантюры (уже не существования), в ее предельной открытости событиям, начиная с самого первого события — рождения. Событийная герменевтика проясняет модальности ответа событию — «эвенеменциалы»,