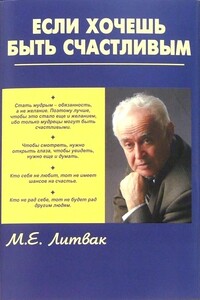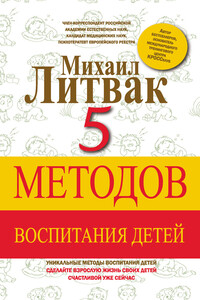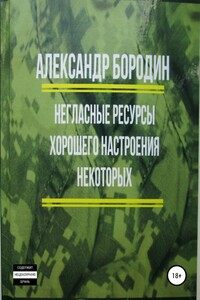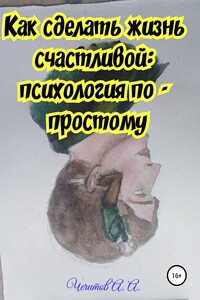Десять методик развития мышления и памяти | страница 76
В общем, словом можно убить, а можно и излечить.
В обучении ораторскому искусству, как я уже говорил, можно выделить три этапа. На первом оратор читает текст, не отрываясь от него, – не следует стесняться этого. Если текст наполнен глубоким смыслом, вас будут слушать. На втором этапе, когда уже накоплен опыт публичных выступлений, оратор практически выступает без конспекта, но все-таки время от времени заглядывает в него. На третьем этапе оратор уже не смотрит в бумажку. Для лучшего понимания эти этапы я образно и обозначил так: вначале читаешь как свинья, потом – как курочка, а затем – как соловей. Вы написали текст, подбирали слова, потом прочли. В тех местах, где вы видите, что вас не слушают, делайте заметки и эти фразы переделывайте. И все равно, не смотря на то, что стали «соловьем», стоит выходить к слушателям с полным текстом лекции. Текст – это как лонжа для циркового акробата, работающего под куполом цирка. Кроме того, он – как нить Ариадны, может вывести к основной идее, если оратор вдруг отвлёкся на вопросы из зала или делает много отступлений, Кстати, именно отступления необходимы для того, чтобы речь была яркой, образной и лучше запоминалась.
Как заметил великий оратор древности Цицерон, каждый, кто решается на публичное выступление, должен чему-то полезному научить слушателя, доставить ему наслаждение и повести за собой. В соответствии с этим выделяются три типа ораторского искусства: низкий, то есть простой – для доказательства, для научения; средний – для услаждения, он хорош в торжественных обстоятельствах; высокий (бурный) – для подчинения слушателя, ведения его за собой.
Лично я говорю низким стилем: он самый удобный. Образно говоря, я вообще стараюсь очень высоко не подниматься: если что не так пойдет, то мне не очень больно будет падать. Когда вы слушаете оратора низкого стиля, у вас складывается впечатление, что если б вы обладали этой же информацией, вы бы тоже могли так выступить. Но эта простота кажущаяся. Когда выходишь на трибуну и пытаешься рассказать даже о том, чем занимаешься ежедневно, получается нечто несвязное. Сердце стучит, покрываешься потом. Слушатели занимаются чем угодно, только не слушают. До сих пор помню, как на одной из первых своих лекций я пытался объяснить, что такое спектральный анализ, но мой учитель потом спросил меня: «Миша, о чем это ты говорил? Непонятно!» И он был прав! Потом я понял, в чем трудности: они не столько в незнании, сколько в неумении объяснять и в психологии общения.