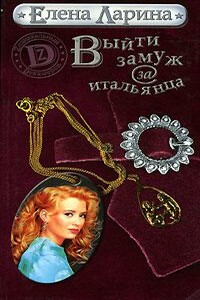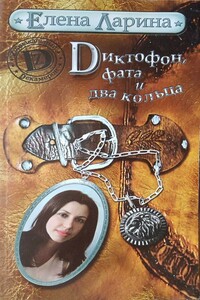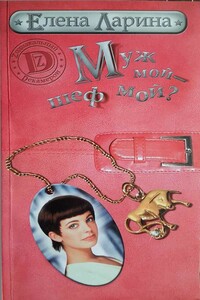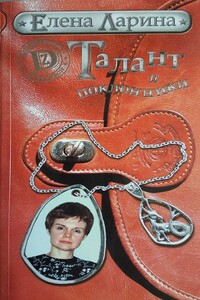Змей из райского сада, или История Евы Королевой, родившейся под знаком Водолея | страница 44
— Да брось… Вон он у тебя орел какой! Маше Арчер лапши на уши сейчас навешает, и будете вы жить долго и счастливо. Знаешь, анекдот такой есть: «У нас все решает папа. А кто будет папой, решает мама». Не злись, ну!
Мне стало стыдно, что он еще меня и уговаривает. Каким-то он оказался уж слишком заботливым и проницательным. Этого я совсем не ожидала от такого мальчика. Только с анекдотом я не очень поняла. Тут был какой-то намек. Или как?
— Да ладно… А что ты один бокал принес? А сам? — спросила я, пряча глаза, в которых, как я полагала, все еще можно было прочесть мои нелепые обиды. Из-за этого я не спросила ничего про эту противную Машу Арчер. Почему-то мне было неловко это сделать.
— Да у меня спектакль завтра. — Он отмахнулся. — Мне нельзя. Ноги тяжелыми будут. А ты пей. Текилу пила когда-нибудь? Надо соль лизнуть, потом выпить и лимончиком закусить.
Так я и сделала. Обжигающее тепло на две минуты сняло боль в горле. А Денис почему-то решил, что меня надо развлекать.
— Знаешь, какое самой страшное слово для физиков-ядерщиков?
Я вопросительно кивнула.
И он, скрывая готовую все испортить улыбку, сказал:
— Упс!
Я вяло улыбнулась. Сил рассмеяться у меня, как оказалось, не было.
— Чего-то у тебя щеки горят… А ты вообще всегда такая квелая или только сегодня? — Он неожиданно по-свойски прикоснулся к моему лбу ладонью. И его глаза расширились от неподдельного ужаса. — Батюшки мои! Да у тебя температура сорок наверно! Ты чем это болеешь, интересно? Не СПИДом, надеюсь… А то у меня завтра спектакль.
И тут я наконец рассмеялась.
Вот и все, что я помню о своем пребывании в Америке по приглашению. Дальше мои воспоминания ограничиваются розовой комнатой и великолепной ванной…
Две недели я проболела жестоким американским гриппом. Температура зашкаливала. Я все время спала. И день за окном сменяла ночь.
Какая именно температура у меня была, я так и не поняла. Градусник измерял ее в Фаренгейтах. Я то плавала в собственном соку, то стучала зубами, пока не научилась в конце концов сжимать челюстями краешек легкого одеяла.
Чургулия демонстративно меня сторонился, боялся заразиться, и спал на другом краю необъятной кровати. Ему болеть было никак нельзя. А мне иногда так хотелось, чтобы он согрел меня своим теплом, обнял бы сзади и я точно бы знала, что тыл у меня прикрыт. Мне казалось, что он недоволен мной, моей болезнью и безобразной растратой денег на билет в Америку в два конца. Болела бы себе дома с тем же успехом. Он так не говорил. Но сарказм звучал в каждой его фразе. Или он считал это живительной силой юмора?