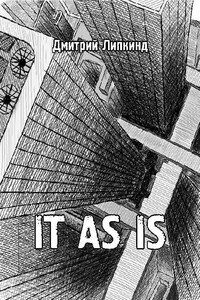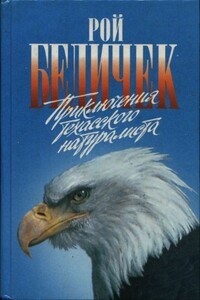Самскара | страница 48
Пранешачария давно сказал себе: «Я углублен в себя по природе. Я родился таким. Жена-калека есть алтарь, на который я приношу в жертву все-ради того, чтобы растить в себе добро».
С этими мыслями он ступил на путь, цель которого — освобождение. И Наранаппу он рассматривал как испытание своей добродетели. И вдруг, так неожиданно, все пошло прахом, и он опять оказался на том же месте, откуда начинал в шестнадцать лет. Где же сбился он с пути? И где путь, который не ведет на край пропасти?
Пранешачария поднял жену на руки и, как каждое утро, понес ее купать, хоть не терпелось выйти из дому и узнать, по какому поводу звенят гонги и завывают раковины. Обливая жену водой из кувшина, он с омерзением видел ее отвисшую грудь, рыхлый нос, куцую, скользкую косичку. Оглушительный грохот лез в уши, и он еле сдерживался, чтобы не завопить: хоть вы уймитесь!
Впервые различал его глаз уродство и красоту. Он сам ни разу не возжелал прекрасных женщин, описанных в священных Книгах. Все запахи земли казались ему благоуханием единого цветка, предназначенного, чтобы украшать собою кудри бога. Женское очарование было лишь отблеском прелести богини Лакшми, повелительницы и рабыни бога Вишну. Один только бог Кришна мог познать истину в радости любовных игр — мог утащить одежду купающихся пастушек и оставить их в реке нагими.
О, теперь Пранешачария хотел все это испытать и сам познать.
Он вытер жену полотенцем, перестелил ей постель, уложил ее и вышел на крыльцо.
Гонги и раковины так неожиданно смолкли, что Пранешачарии почудилось, будто он с головой окунулся в глубокую воду.
Зачем я вышел? Увидеть Чандри? Но Чандри нет.
А вдруг они бросят его обе — и та калека в постели, и другая, положившая его ладони на свою грудь? Впервые в жизни всем существом ощутил он холод и сиротство одиночества.
Брахмины, разогнав наконец грифов, стадом полезли на его веранду, вопрошающе запрокинули трупно осунувшиеся лица.
Брахминские души стиснул страх при виде Ачарии — растерянного и не отвечающего на их немой вопрос.
Ачария видел глаза брахминов, сиротские, ждущие глаза, — они на его плечи переложили долг, к которому их обязывала каста.
Они ждали.
Всматриваясь в эти глаза, Ачария испытал укор совести, но вместе с ним и странную легкость от мысли о том, что теперь он свободен: он освободился от необходимости направлять поступки других, от тягот власти над ними.
«Что я за человек? Такой же, как вы, душа, понукаемая похотью и злобой. Не это ли мой первый урок уничижения? Скорей, Чандри, расскажи им, пускай не думают, что я их гуру».