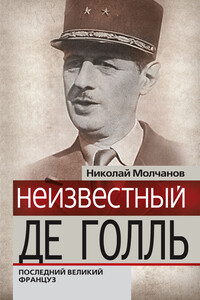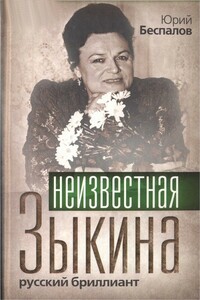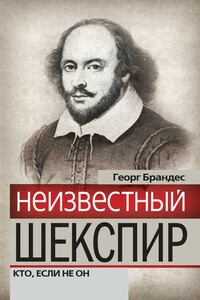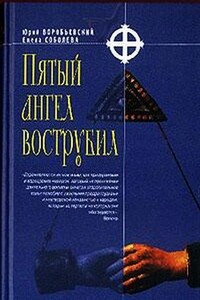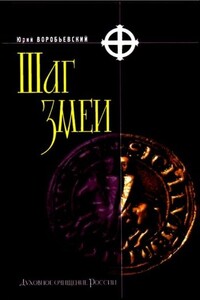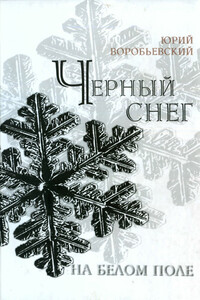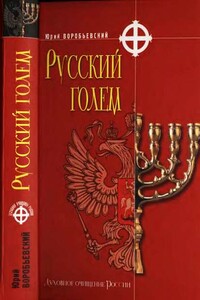Неизвестный Булгаков. На свидании с сатаной | страница 46
Да, на одну чашу алхимических весов поэтесса бросает «кровь, жизнь, честь и совесть», а на другой оказывается пустота призрачной свободы. Чтобы уравновесить, бес незаметно нажимает на чашу темным когтистым пальцем. Слова Марины Ивановны похожи на слова Фламеля из его «Книги иероглифов». Он писал, что если «религиозность составляет… «первичную материю» творения, алхимическая духовность преступает религию и мораль. Алхмик обнаруживает свое одиночество, теряется во Вселенной и изобретает свою мораль (он становится «сыном своих творений»)»[49].
Художественное творчество Цветаева называла атрофией совести, тем нравственным изъяном, без которого искусству не быть. По-своему интересна статья М. Цветаевой, где она сравнивает качества Дон Жуна и Казановы. Если первого она называет просто богоборцем, сознательным разрушителем женской добродетели, то второму поэтесса приписывает совсем иные качества. Он якобы настолько любит и жалеет всех, и женщины после общения с ним настолько счастливы, что даже матери приводят к нему своих дочерей (для участия в оргиях). Вот так: коли блуд не оставляет чувства опустошения, а просто приятен, то это благо. Таков чувственный критерий. И он полностью зависит от того, насколько старательно бесы щекочут эмоции. Основоположники сентиментализма мыслили примерно так же: если человек заплакал над плотью написанного слова, то он — якобы уже на пути духовного исправления. Если вознегодовал по поводу чужой неправедности, то он не повторит ее сам. Духовное понятие греха забыто. Оно забито чувственными ощущениями.
Да, к началу XX века мораль перестала вдохновлять некоторых творцов, более того, она виделась «препятствием творческой энергии жизни». Не хочется показаться скучным моралистом, но, например, поиск новых «муз» для творчества привели Булгакова не просто к трем бракам, но и к некрасивым расставаниям, особенно с первой женой. Расставание это, надо сказать, все же мучило совесть писателя. Ее голос вряд ли могли заглушить характерные слова, написанные в 1916 году Н. А. Бердяевым (которые Булгаков, возможно читал): «Умеренная мораль, мораль безопасности, мораль, которая отсрочивает наступление конца… должна рано или поздно прекратиться, преодоленная творческой интенсивностью человеческого духа».
Цветаева поучала знакомую поэтессу: «Пока не научитесь все устранять, через все препятствия шагать напролом, хотя бы и во вред другим, пока не научитесь абсолютному эгоизму в отстаивании своего права на писание — большой работы не дадите». Об этом же, об избавлении от совести, о развитии эгоизма как пути индивидуализации, пишет и Юнг. Подобные качества знаменитый психиатр И. А. Сикорский описывал, между прочим, как проявления «демонизма» личности — среди признаков вырождения. Он даже составил психологические портреты лермонтовского Демона и гётевского Мефистофеля: «… холодный ум, злоба, злорадство, бессердечность одинаково присущи Мефистофелю художников, Демону поэтов и Дегенерату психиатров. Но так как поэтическое и художественное творчество черпают свой материал из реального мира, то весьма правдоподобно, что класс дегенератов и является той моделью, которой пользовалось творчество в своих созданиях».