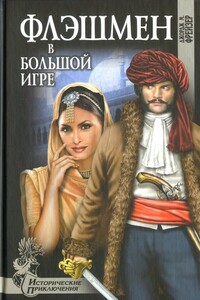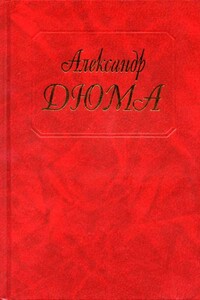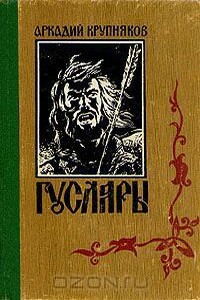Георгий Победоносец | страница 87
Но ежели с другой стороны поглядеть, не так оно всё и худо. Милорадовых земля, пускай себе и неполных полтораста десятин, узким клином врезается в долгопятовские вотчинные земли и давно уж мешает, как бельмо на глазу. Поедешь, к примеру, в Свято-Тихонову пустынь — Господу помолиться, поклониться святыням, с отцом-настоятелем словечком перемолвиться, — так это сперва вкруг Милорадовых без малого десять вёрст крюка дай (потому как, ежели напрямик, это надобно к князю в гости завернуть, оказать хозяину почтение, а на кой он Феофану Иоанновичу сдался, тот князь?), а потом ещё и с Зимиными та ж история. Вот отдаст на днях Зимин Лесную с полусотней десятин да шестью десятками душ, его уж объезжать не придётся, попрямее дорожка станет. А потом, когда Милорадов-князь богу душу отдаст (что, надо думать, долго ждать себя не заставит), и его земелька Долгопятым отойдёт. Так-то оно круглее будет! А Иванушка, сыночек, к тому времени, поди, с молодой женой уж вдоволь натешится. Избавиться от неё невелика хитрость, а тогда можно будет и о новом сватовстве думать — настоящем, с прицелом, от коего не одно токмо плотское удовольствие, но и польза произойдёт.
Мимоходом подумалось о Зиминых. Андрей Савельевич пообещал уступить деревню, считай, за бесценок, а взамен просил только одного: похлопотать при дворе за своего сынка, чтоб досталось ему какое-никакое местечко близ государя, на коем и отличиться можно, и жалованье иметь. Смекнул, вишь, хоть и дурень, что супротив Феофана Иоанновича ему долго не продержаться — землица-то у него дрянная, тощая, родит из года в год хуже, того и гляди, по миру пойдёшь. Сам-то ничего, дожил бы как-нибудь, а вот сыну без царёва жалованья — зарез, впору руки на себя наложить.
Похлопотать Феофан Иоаннович согласился, однако бить челом, прося за дерзкого пащенка, на деле и в мыслях не держал. Ещё чего! Будто мало без него в Кремле худородных толчётся, дерзких да горластых паче всякого приличия…
Феофан Иоаннович плеснул себе вина из оплетённой баклаги, с сомнением понюхал кубок. Запах показался кислым и затхлым — не то из-за Ивановых песен, что по-прежнему раздавались за стеной, разносясь по всему боярскому терему и, мнилось, по всей округе, к вящему сраму горемычного отца, не то из-за собственных мыслей боярина. Они-то как раз и были кислыми да затхлыми, как перебродившая в кадке у нерадивой хозяйки брага. Но брага — то ещё полбеды. Её, по крайности, выплеснуть можно или свиньям скормить. А с мыслями-то что делать? Сами они не уходят, гнать их не получается… Сказывают, если поделиться с кем-то, выговориться, излить душеньку хорошему человеку, то будто бы легче станет. Так ведь, ежели кто сведает, что на душе у боярина Долгопятого, каковы его сокровенные помыслы, быть беде! Висеть ему на дыбе, страдать ему на колесе, а после, того и гляди, сидеть на колу, как последнему татю холопского роду-племени…