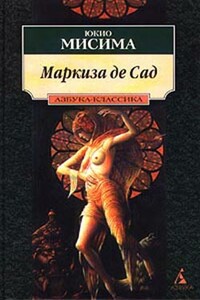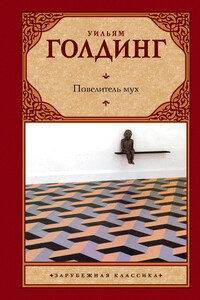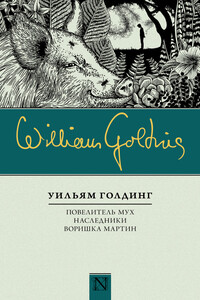Шпиль | страница 22
Мастер сказал нетерпеливо:
— Вы что, не хотите понять меня? Говорю вам, из денег шпиль не построишь. Сделайте его из золота, и он только глубже уйдет в землю.
Джослин со смехом покачал головой.
— А теперь послушай меня, и ты увидишь, что тебе не о чем беспокоиться. Не деньги посылает епископ. В конце концов, что такое деньги? Он посылает нечто гораздо более, бесконечно более ценное… — Волна чувств захлестнула Джослина, взметнула его голос высоко. Он положил руку на плечи мастера, и это было почти объятием. — Мы замуруем его в самый верхний камень шпиля, и он пробудет там до конца дней. Милорд епископ посылает нам святыню. Гвоздь с креста господня.
Он убрал руку с плеч мастера, который стоял с непроницаемым лицом, и взглянул вдоль залитого солнцем нефа. Увидев седую голову отца Ансельма, он вдруг подумал, что без исцеляющего бальзама жизнь была бы непереносима. И он быстро пошел, почти побежал к старику через весь неф, размахивая письмом.
— Отец Ансельм!
На этот раз Ансельм встал перед ним. Он встал медленно, безропотно снося свое мученичество, и не закашлялся, дабы соблюсти достоинство, а лишь глухо, едва слышно кашлянул три раза. Лицо у него было холодное и непроницаемое.
— Отец Ансельм. Дружба — бесценное сокровище.
Все то же непроницаемое лицо. Джослин, окрыляемый радостью, не отступал.
— А мы что с ней сделали?
— Вы ждете от меня ответа, милорд, или же это вопрос риторический?
Джослин со всех сторон обволакивал его любовью.
— Хотите прочесть это письмо?
— Вы приказываете мне, милорд?
Джослин громко рассмеялся.
— Ансельм! Ансельм!
Старик упрямо отвергал его любовь, отворачивался, глядя на дощатую стенку, и покашливал негромко, но явственно, сухо: кха, кха, кха.
— Если письмо касается капитула, милорд, мы, без сомнения, узнаем его содержание в должное время.
— Ансельм. Я хочу сделать вам подарок. Я освобождаю вас от этой обязанности. Мне следовало знать, что с вашим слабым здоровьем и при таком упорном нежелании… В конце концов, я больше всех занимаюсь этим делом. Я беру все на себя. Вы один можете меня понять, вы, мой духовник, пастырь моей души.
— Позвольте мне спросить, милорд. Значит, я не должен буду ни сторожить в соборе, ни надзирать за сторожами?
— Вот именно.
Выражение лица Ансельма не изменилось, его благородный профиль в ореоле седых волос был обращен к востоку. Он стоял, величественный, царственный, спокойный. И тяжело обронил:
— А грамота?
Тяжелые слова. То не были жемчуга или самоцветы, которые подобает рассыпать святому. То были булыжники. И Джослин не мог даже обидеться, не находил, за что ухватиться, потому что, хотя слова и были дерзкими, они были верны и отвечали уставу: