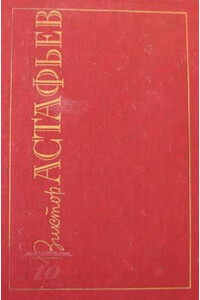Расколотое небо | страница 39
— Плетеный он, твой Свентицкий! — сказал тогда Глазунов. — Ну да ладно! А за что с ним бились?
— По глупости, — нехотя сказал Щепкин, потому что вспоминать о той саратовской истории не хотелось.
— А чего сейчас хмурый? — осведомился Глазунов.
Оказалось, что экс-корнет лейб-гвардии гусарского полка барон Тубеншляк, сославшись на недомогание, отказался утром лететь на разведку: немцы установили на передовой зенитные орудия, стреляли метко. И хотя была очередь не Щепкина, послали его.
И это уже не в первый раз…
— А чего ты от них ждешь? — спросил спокойно Глазунов. — Тебя сшибут, ну, еще один хам, быдло сгинет. А себя они очень даже берегут.
— Неправды много, — сказал Щепкин.
— Это точно, — согласился Глазунов. — Ты, парень, того… Зайди-ка ко мне вечерком в палатку… Потолкуем.
Вот так и началось превращение Даниила Щепкина, который словно промытыми глазами увидел впервые ясно и просто: даже здесь, на фронте, он обыкновенный батрак, только в шинели…
Через две недели молодость взяла свое. Щепкин стал поправляться.
Как-то днем, приподняв голову с набитой соломой подушки, посмеиваясь, смотрел он, как Леон, зажав нос, стонет от ненависти:
— С-скотина… Скотина ты, Данечка. Из-за тебя муку принимаю!
Свентицкий мотал кудлатой головой, блестящие, черные, как вороново крыло, волосы завивались кольцами. Из-под серой кожи остро выпирали скулы, исхудавшая шея болталась в вороте больничного байкового халата.
Предметом для раздражения Леона был рыбий жир, который приказано было пить ежедневно. Огромная бутыль стояла на подоконнике, мутно просвечивала. Жир согревало сквозь немытые стекла горячее мартовское солнце. Леон отхлебнул жир прямо из бутыли, выругался…
Мосластый, здоровенный, он и в их трудном бегстве оказался физически сильнее. Пал под Щепкиным загнанный, задохнувшийся от жажды конь — Леон заставил его ехать на своем. Вышла еда — не задумываясь, свалил свою лошадь выстрелом из парабеллума в ухо, разделал часть туши ножом; насадил на ивовый прут мясо, обуглил его на костре, заставил есть.
Ветер мел по степи мелкий, как пудра, песок, жег глаза. На оледенелой унылой земле песок лежал как неподвижные низкие волны, от однообразия, безлюдности, монотонного свиста ветра гудела голова. Они держали один курс: на восток. Взяли конины, сколько смогли, пошли пешком дальше. Свентицкий шел сзади, гулко и хрипло, не переставая, ругался. Сначала Щепкин слушал его ругань с интересом. Из нее выходило, что он, Щепкин, есть полный сопляк и истерик, топор в проруби, прореха в среде славного российского авиационного сословия. Леонид проклинал его не переставая, нажимая только на то, что, не будь он его другом и товарищем по проклятой гимназии — пальцем бы он, Свентицкий, не шевельнул и шагу бы не сделал для спасения сего идиота, кретина, микроцефала, юродивого… Болтаться бы ему, Щепкину, в намыленной петле за покушение на слугу отчизны, коий, ясное дело, уже закопан в мать сыру землю с расколотым черепом.