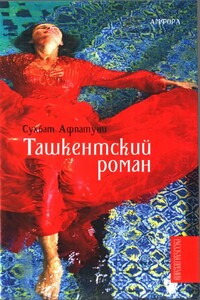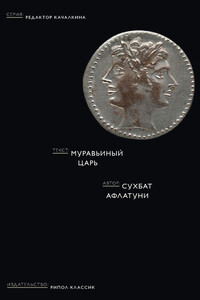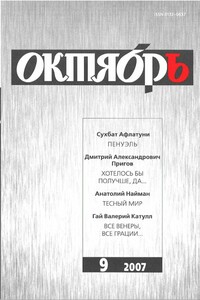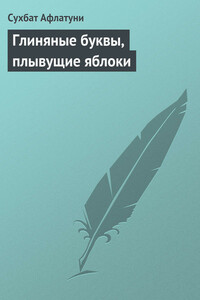Дождь в разрезе | страница 77
И «отсутствие резкой границы между поэтическим творчеством и исследованием поэзии», которое приветствует Новиков, у меня оптимизма не вызывает. Скорее — наоборот. Поэзия — настоящая — как раз и отличается тем, что способна дышать и двигаться без филологических помочей[90].
Раньше на этом «размывании границы» между поэзией и ее исследованием специализировались, в основном, авторы круга «НЛО»[91]. Теперь процесс пошел вширь. Владимир Новиков, скажем, к этому кругу не принадлежит. И уж тем более другой критик, Владимир Козлов — постоянный автор «Ариона» и «Вопросов литературы». С прошлого года он издает свой журнал — «Prosōdia»: «литературно-исследовательский», как написано на обложке. Возникает, правда, вопрос: если журнал исследовательский — то для чего печатать в нем стихи? А если печатать стихи — к чему заявлять «главной ценностью» журнала «уважение к филологическому знанию»?
Невольно задумаешься над ироничным предсказанием Геннадия Каневского:
Впрочем, что вымрет, а что нет — а что изначально было мертворожденным, покажет будущее. Пока же предлагаю вернуться после «фрагмента о филологизации» к основной теме этого очерка. Тем более что почти все, что я собирался сказать о фрагменте, уже сказано, пора переходить к коде.
«Длинная поэма из нескольких слов»
Может показаться, что фрагмент оценивается в этом очерке несколько скептически. Это не так.
Фрагмент всегда возникает в результате расщепления крупных эстетических систем. В романтическом фрагменте — классицизма (и, в целом, возрожденческого культа античности). В модернистском — всей европейской литературы. В постмодернизме — всей мировой литературы.
Фрагмент — как и цитата, как и пародия — результат этого расщепления. Он ускоряет литературный метаболизм, он производит важную работу по «разборке и переработке» того, что устарело.
Может ли фрагмент быть талантливым?
Разумеется. Но в этом случае он как раз и перестает восприниматься как фрагмент. Так же как талантливый палиндром — это когда на то, что строки читаются одинаково слева-направо и справа-налево, обращаешь внимание в последнюю очередь.
Или то, что было сказано в этих очерках об эпитетах: лучший эпитет — «бедный», незаметный.
Иными словами, чем меньше выпирает в стихотворении формальная сторона, чем его «задуманность» спрятана глубже — а не выставлена как на витрину, — тем лучше.