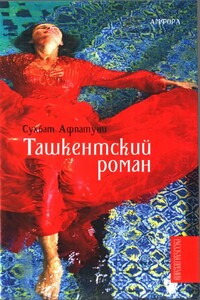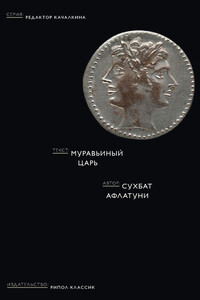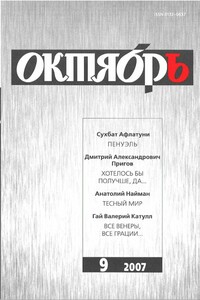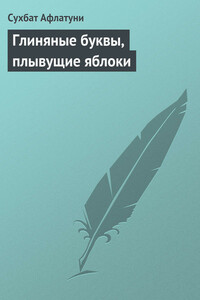Дождь в разрезе | страница 76
В одном случае — содержательной полнотой, что создает смысловую избыточность и затрудняет одновременное «считывание» всех ее слоев.
В другом — содержательной бедностью, которая требует от читателя филологической, по сути, работы по отыскиванию в поэтическом «архиве» более-менее подходящих интерпретаций для заполнения зияющих смысловых пустот в самом стихотворении. Так обычно поступает филолог, когда ему в руки попадает трудночитаемый обрывок исчезнувшего текста. Момент оценки и уж тем более удовольствия от стихотворения здесь фактически отсутствует. Исчезает прямое — интуитивное по своей природе — усмотрение смысла.
«Смыслом, — еще раз процитирую К. Элиас, — становится сам поиск смысла».
Вопрос только — для чего?
Это, конечно, не «csdpZ zsdui», эту шараду разгадать полегче. Но логика фрагментации — аналогичная.
Это стихотворение Анны Альчук (1955–2008) приводит в свой статье «Хлебников и современная русская поэзия» Владимир Новиков[88].
О стихах Альчук говорить не буду (…aut bene, aut nihil). А о статье Новикова — сказать стоит, поскольку в ней так же, как и у Уланова, идет речь о современных судьбах футуристической зауми. Даже немного отвлекусь для этого от основной темы статьи.
«Грядущие гунны»
«Осознанную ориентацию на хлебниковский творческий вектор сегодня можно обнаружить не в литературном истеблишменте, а в сфере оппозиционно-альтернативной», — пишет Новиков.
Читать это странновато. С конца 1990-х русская поэзия как раз формируется как нечто лишенное четких административных иерархий и жестких перегородок. Каждый — сам себе «истеблишмент»: хочешь — премию учреждай, хочешь — устраивай фестиваль или издавай электронный журнал. Было бы время и желание.
Что касается ориентации на Хлебникова и на «заумь»… Возможно. Учитывая нынешнее усыхание словотворчества в русской поэзии, обращение к футуристической зауми (с ее ориентацией на неологизмы) — это даже совсем не лишне.
Проблема в другом. Футуризм — еще активнее, чем поэзией, — оказался освоенным и присвоенным филологией. Стал, вместе с сюрреализмом, своего рода знаменем для нескольких волн «младофилологов» (в России, а еще больше — на Западе)[89]. Не уверен, будет ли кому-то под силу очистить футуризм от этой филологической накипи, от всех этих монографий, диссертаций. А главное — от «заумной» стихотворной продукции, порожденной вполне академическим, кабинетным вдохновением.