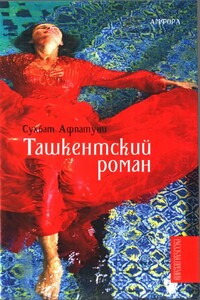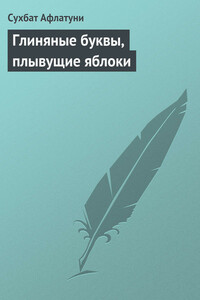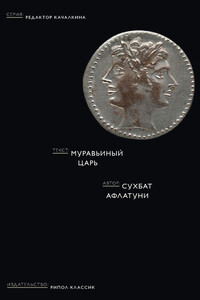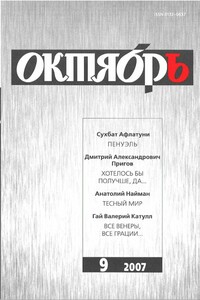Дождь в разрезе | страница 36
От эпитета — к слову
Я вычеркну эпитет. Но где мне взять другой?
Александр Дьячков
Возможен, конечно, радикальный вариант — просто отказаться от эпитета (подобно тому, как многие поэты, устав от «красивых» рифм, начинают писать верлибром). Как еще лет двадцать назад писал Наум Басовский:
Периоды отказа — либо минимального использования — эпитета как раз обычно и наступали после периодов его активной эксплуатации. Эпитетами увлекались символисты; идущие за ними акмеисты, напротив, пользовались ими довольно скупо. Колебания между густотой эпитетов и стремлением свести их использование к минимуму могут происходить и на протяжении одной писательской биографии. Например, обилие эпитетов у раннего Бродского — и их почти полное исчезновение у позднего.
Возможно, сейчас в поэзии происходит нечто схожее. Красивый, звучный эпитет — так же как и «изысканная» рифма — слишком долго был признаком особого мастерства — в противоположность «массовой» советской поэзии с ее, как правило, банальной эпитетикой. Кульминации эта линия достигла в восьмидесятых у метаметафористов, у которых без эпитета почти не встретишь не то что катрена — даже строки. Например, в замечательной «Элегии» Парщикова (там, где о жабах):
В девяностые, даже в начале нулевых исчерпанность подобной эпитето-избыточной поэтики еще не казалась очевидной.
Сегодня она уже не просто кажется — она действительно исчерпана.
Неудивительно, что стихи многих современных поэтов крайне бедны эпитетами. Например, стихи Олега Чухонцева, Михаила Айзенберга, Алексея Дьячкова, Бориса Херсонского…
Кстати, этим отчасти объясняется мое несогласие с интересной в целом статьей Алексея Саломатина, где Херсонский рассматривается в паре с Дмитрием Быковым