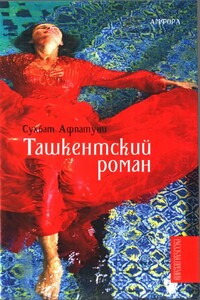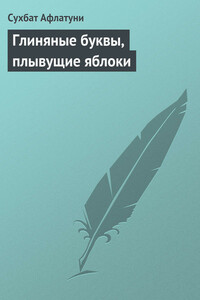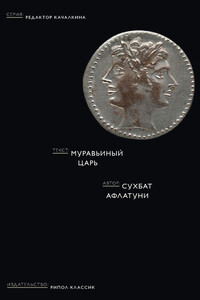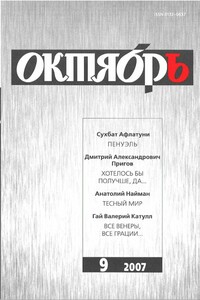Дождь в разрезе | страница 35
Возможно, «За городом» родилось совершенно независимо от строчковской «Бузины». Но некая вторичность у Гандельсмана все же ощущается — не только в рифме, но и в образах, «оптике». Что лишний раз подтверждает: текст третьего уровня, «текст-отражение», может быть написан талантливо, но талантливость эта — в украшении, подновлении уже отработанного материала.
Чтобы не возникло ощущения, что проблема эпитета возникает только в пейзажной лирике, приведу пример из социальной поэзии. Или, если верить названию рубрики «Нового литературного обозрения», где этот текст напечатан (№ 108, 2011), — из «новой социальной поэзии». Два стихотворения из цикла Петра Чейгина «В переносице флага»:
А вот и второе:
Бóльшая часть эпитетов действительно взята из расхожего словаря «гражданской» лирики. Общий, бронзовый, ненужный (миру), паучий… Равно как и существительных: трон, линкор, вождь, значок… Обращается с ними Чейгин по той же схеме, по какой Гандельсман пытается обновить, остранить отработанные эпитеты лирики пейзажной, — через прибавление к ним в родительном падеже еще одного существительного, или даже двух.
Только пользуется этим приемом Чейгин более радикально, комбинируя настолько случайные элементы — «сыпь точёного вторника», «крохи пахучего шага общего вождя» и т. д., — что гандельсмановская «страда моментального отклика» кажется образцом простоты и кларизма. Невольно припоминается фраза Мандельштама о Кручёных: «…и вовсе не потому, что он левый и крайний, а потому, что есть же на свете просто ерунда». И ерунда эта уже «второй свежести» — достаточно сравнить «Ветра бронзовый значок…» с написанным совершенно тем же размером хармсовским: «Как-то бабушка махнула, / и тотчас же паровоз / детям подал и сказал: / Ешьте кашу и сундук». Можно даже центон составить при желании.
Как ни велико расстояние, отделяющее вполне традиционный пейзажик Коновалова от «ново-социального» Чейгина, — в отношении к эпитету, в работе с ним мне видится один и тот же подход. Эпитет продолжает восприниматься функционально, как украшение стихотворения