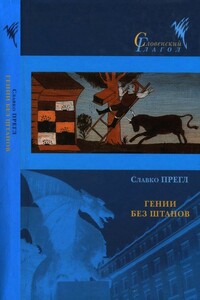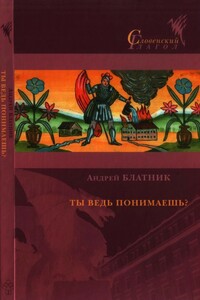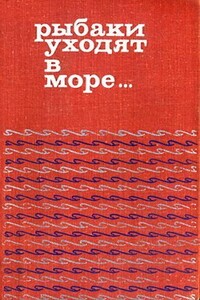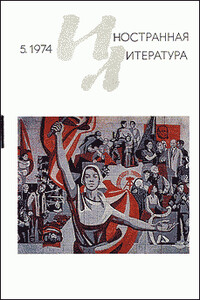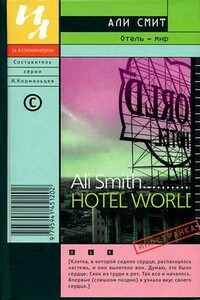Левитан | страница 35
Мокрый, я вернулся в камеру. Потом Косезник мне рассказал, что это называется — прогулка! Над своей «олимпиадой» я хохотал до слез. Однако это была полезная школа, кое-какой опыт. Многое в себе я исправил и усовершенствовал. Прежде всего — к разминке надо приступать сразу же, как зажжется свет (мышцы, дыхание), а не потом, уже по дороге. Необходимо подготовиться и к смерти через расстрел, исследовать, что сокрыто в ней, отыскать какую-нибудь возможность для воображения.
Косезника увезли. В его камере поселился трус, не осмеливавшийся даже отозваться на стук через стену. Это направление оказалось для меня отрезанным. Косезника я больше никогда не видел и не слышал о нем, никто его не знал. Профессора осудили на пятнадцать лет, он был абсолютно обескураженным, когда его привезли после суда обратно. Позднее мы встретились в тюрьме. На воле он хаживал в одну компанию, где говорили обо всем на свете, кое-что из этого он потом рассказал коллегам в конференц-зале. Его осудили по закону о народе и государстве. (Жена просидела больше года без приговора, тогда это называлось «была на ОПТ, занималась общественно полезным трудом».)
Через два дня увезли и профессора, в его камеру попал зеленый новичок, которого я мучительно учил предметам первого класса тюремной школы. Для трех фраз поначалу нам потребовалась вся вторая половина дня. Он был уверен: его упекла жена за то, что у него была любовница. Какие-то дела из времен оккупации. Он был состоятельным человеком, позже у него все отобрали, так что и жена получила свой бумеранг в голову. С трудом я научил его устанавливать контакты далее, он был настоящей бездарностью для ареста, да и онанировал только, получая передачу из дома. В результате я оказался весьма одинок.
Иногда мне хотелось лезть на стенку и ходить по потолку, как муха. Календарь, который я выцарапал на стене, показывал, что зима вскоре перетечет в весну. А это время, когда меня охватывает вечное неудержимое стремление к чему-то — как дерево, распускающее почки. Да к тому же меня переместили в крайнюю камеру, рядом с которой был сосед, дни и ночи печатавший на пишущей машинке и не отвечавший на стук, даже на «приятного аппетита» во время еды чертяка не отреагировал. Что он печатал? По доносящимся звукам я сосчитал (а печатал он быстро), что он пишет по тридцать страниц в день. За десять дней — триста листов. За месяц — почти тысяча. Потом я узнал, что людям давали задание писать подробные автобиографии с точным описанием всех событий и всех людей, встречавшихся им в жизни. И это не по одному разу. По пять-шесть раз, так что некоторые уже отписали килограммы бумаги. Я же от автобиографии отказался. Потом тюремный комиссар сказал мне: никто не выходит из этих стен, не написав автобиографии. Но он меня не убедил. Что-то во мне противилось расписываться для господ товарищей. Не сходилось с моим жизненным стилем — и аминь. Кое в чем я упрям как мул.