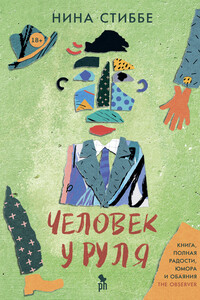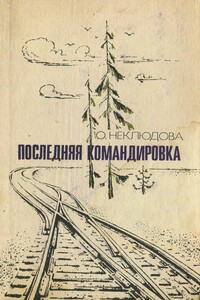Без труб и барабанов | страница 41
Эта самая хрупкая Оля, тезка, так сказала свое «повезло», с такой завистью наивной, чистейшей… и муж ее молодой, он ведь не обиделся даже, а закивал — повезло-повезло. Ольга всегда видела это в своих соотечественниках — что в советских, что потом в российских. Не столько неуважение к своей стране (хоть и его хватало, конечно), сколько усталую обреченность: как будто дома, в России, не было ни для кого никакого будущего и быть не могло, и даже мысли, что все-таки могло бы, не возникало.
На дорогу молодоженам вынесла два багета с ветчиной. Отказывались как оглашенные, руками махали, а глаза-то голодные. Потеряшки и есть. Вышла с ними, проводила через старые городские ворота, показала, как пройти к станции.
Внуки на заднем дворе по-прежнему мучили велосипед. Гремели звонком, корзинку едва не оторвали. Ольга смотрела на них, сосредоточенных в порыве разрушения, и не могла удержаться от улыбки. Смешные. И ни на Верушку, ни на мужа ее не похожи. А похожи на Томаша, царство ему небесное, — каким он сфотографирован в конце двадцатых.
Томаш… Она ведь из-за него не вернулась в Союз тогда, в шестьдесят восьмом. Не из-за Мартина. Не из-за ребенка. Ей, восемнадцатилетней, законопослушной, и в голову не пришло бы, что можно просто взять и остаться при муже. Поэтому, когда Мартин сказал: «Не поеду!», она даже заплакать не смогла. А только подобралась вся — и такое внутри стало ощущение, будто плечи, скулы, лопатки перехвачены стальными обручами. Услышала «Не поеду!» — и стала сама себе как чужая. Механически ела, что дают, шла, куда ведут, и только думала почему-то, как же она обратно вещи повезет, без чемодана? Их немного было: пара платьев, да кофточки, да туфли, — но ведь и это надо было упаковать, а просить у чужих казалось неловко. У них вон танки, а тут она еще, с пустяками. И к концу недели мысли о неустроенном багаже едва не свели ее с ума. Она уж всерьез собиралась выбросить все в контейнер за углом, лишь бы не думать об этом. А ребенок — что ребенок? Родит спокойно и одна поднимет. Не маленькая.
Тут и вмешался Томаш. Куда-то он звонил, перешучивался с кем-то, уезжал с петухами и возвращался затемно, и утром последнего дня, когда Оля, разложив свои небогатые наряды на кровати, бессильно разрыдалась над ними, вдруг оказалось, что ехать никуда не надо — все уже устроилось. Как Томашу это удалось? Одному Богу известно. Но наступившая суматоха наверняка сыграла тут не последнюю роль.