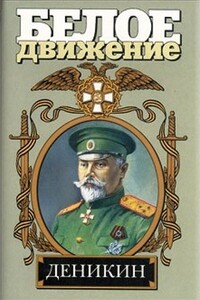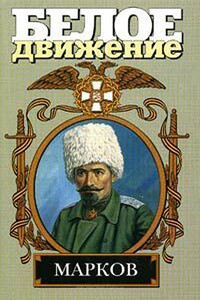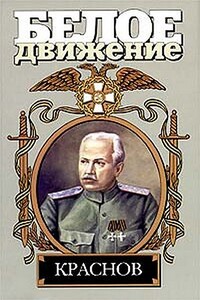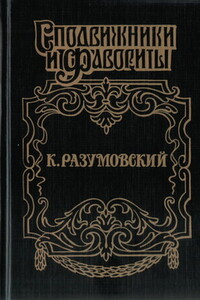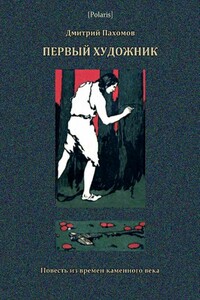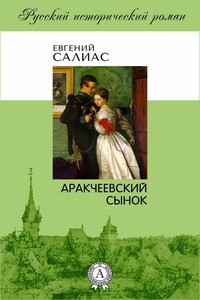Савинков: Генерал террора | страница 9
— Суд! Немедленно! Я не хочу, чтоб меня, как паршивого пособника, разжаловали в солдаты!
Все пали духом. Даже Зильберберг на своей тайной квартире напился... Невозмутимым оставался только сам Василий Сулятицкий.
— Ничего, ещё попытка. Но можно вывести при этом только одного человека...
Савинков не мог принять такое благо на себя.
С помощью подкупленного жандарма, по причине дня рождения у Назарова, удалось устроить общее совещание. В камере именинника, под праздничный пирог. На правах хозяина Назаров первым и заговорил:
— Кому бежать? Конечно, тебе, Борис Викторович.
— Нет. В таком случае — жребий!
— Тебе. Без жребия, — потребовал и Двойников.
А мальчуган Макаров был просто в восторге. Он не мыслил иной судьбы, как умереть за революцию:
— Вы... вы, Борис Викторович, должны, вы просто обязаны!..
— Ну-у, к своим обязанностям я отношусь серьёзно.
Пришлось согласиться. С одной поправкой:
— Если мой побег состоится, никто из вас не будет повешен. Слово Савинкова. Прощайте, — обнял он всех по очереди, потому что из коридора сигнализировал Сулятицкий — вероятно, начальник караула после опохмелки вышел прогуляться.
Сулятицкий снова вошёл в камеру, когда истёк уже всякий назначенный срок. В три часа ночи сменялся караул. Ага, та смена была ненадёжная. Он привёл свою.
— Так бежим? — спросил, закуривая «на дорожку» папиросу и передавая револьвер.
— Но что вы думаете делать, если меня узнают солдаты?
— В солдат не стрелять.
— Я и сам не могу стрелять в солдат. Только — в жандармских офицеров. Если караул поднимет шум, значит, обратно в камеру?
— Нет, зачем в камеру?
— А что же?
— В любого офицера, даже не жандармского, стреляйте без раздумий. Я тоже не промахнусь, хоть и семинарист. Здесь одни сволочи и прохвосты... прости меня, Господи! Но в солдат — не могу позволить. Значит... стрелять, в случае провала, придётся в себя.
— Великолепно. Пошли.
— Из первых трёх часовых я одного отправил спать. Ненадёжный. Может шум поднять.
Проходя мимо двух оставшихся, Сулятицкий небрежно бросил:
— Мыться идёт... Говорит, болен.
По инструкции умываться разрешалось не ранее пяти часов утра, всегда под наблюдением жандарма и так называемого «выводного» солдата. Однако полусонные часовые, подчинённые непосредственно Сулятицкому, не увидели ничего странного в том, что заключённый выходит из камеры ночью с одним разводящим.
Когда дошли до железных дверей в конце коридора, Сулятицкий прикрикнул на очередного часового: