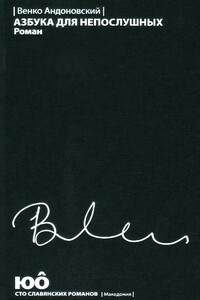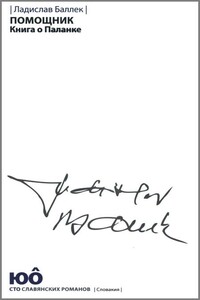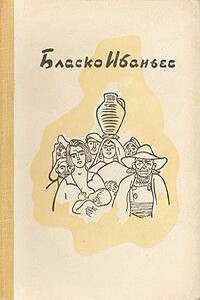Волчьи ночи | страница 106
Из зарослей со стороны болота, невдалеке от него, вынырнула какая-то фигура. Которая сгорбившись двигалась к холму. Он ускорил шаг. Ему хотелось догнать человека, скорее всего, спешившего на спевку.
— Эй, — закричал он, — подождите… — и помахал незнакомцу, который на мгновение приостановился оглянуться, но, судя по всему, его не очень интересовало общество Рафаэля… Он не собирался останавливаться и дожидаться его. Шагал вперёд, словно очень спешил и у него не было ни времени, ни желания заниматься чем-то другим. Поэтому Рафаэль прекратил свои попытки догнать незнакомца. Его обидело то, что идущий впереди — кем бы он ни был — шёл себе по тропе и ни разу не оглянулся. Это вызвало у него чувство горечи, он сам на себя сердился за то, что хотел стать спутником незнакомца, немного странного на вид, по крайней мере сзади, в полумраке, он, с большим капюшоном на голове и в тяжёлой меховой шубе, был похож на героя какого-то странного маскарада, который хочет остаться в одиночестве.
Рафаэль перестал думать о незнакомце. А потом с той же горечью думал о Куколке, Эмиме и Грефлинке и обо всех тех событиях, которые сплелись в тугой узел, может быть, из-за одного только Михника и его козней и замыслов, которых Рафаэль не мог себе объяснить.
Ещё не добравшись до подножия холма, он услышал за собой шаги.
Группа людей гуськом шествовала за ним. Они молчали. Он предпочёл отойти в сторону. И не смог поздороваться с ними, хотя некоторые из тех, кто проходил мимо него, кивали ему головой или приветствовали холодной насмешливой ухмылкой. Они торопились. С их губ в холодный сумрак слетали облачка пара. Среди них были женщины. И ему казалось, что они очень косо, очень сердито смотрят на него… Правда, ему удавалось рассмотреть далеко не все лица, поскольку идущие были замотаны в шали и платки, их шляпы и шапки были низко надвинуты на лоб, а воротники высоко подняты. Они прошли мимо него прежде, чем он сумел сосредоточиться и придумать что-либо подходящее.
И они удалились… ничуть не думая о нём.
В лощине под деревьями было ещё темнее. Ветер раскачивал ветки и мысли и вносил в них беспокойство, которое оседало где-то внутри, так что в голове всё шумело и сплеталось в клубок и отзывалось какими-то толчками, какими-то звуковыми галлюцинациями, когда то впереди него, то сзади скрипели чьи-то несуществующие шаги, когда перед глазами мелькали чьи-то зубастые усмешки и холодные глаза. Такие глаза были у бледной дамы с портрета, висевшего на стене в кухне. Так, в ночь святой Луции, скалила зубы мёртвая морда. Он знал, что это вылезает из потустороннего, а не из обычного человеческого мира, что оно никак не связано с людьми, которые шагали вверх по ложбине, не связано ни с ветром, ни с лесными шорохами, что это было специально придумано, чтобы напугать его, что оно забралось в его намять и не хочет покидать её. И во тьме корчит уродливые гримасы… Можно было поспешить за ушедшими. Можно было присоединиться к ним. И потом, мимоходом спросить их о Куколке. И о многом другом — о хоре, о Михнике, и Эмиме, и Грефлинке, и Аге, можно было, хотя бы со временем, стать одним из них, точно таким же, как они, здешним среди здешних, своим среди своих. И позабыть обо всём другом.