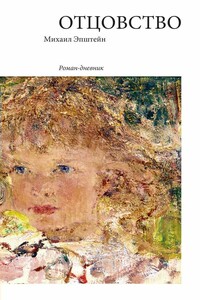Хитрость Бога и другие парадоксы теологии | страница 4
Вся наша жизнь, в том числе и религиозная, какой она является перед лицом Бога, — это сплошной кризис и агония. Только благодаря кризису мы можем пережить встречу с самим Богом, точнее, открыть себя для Его встречи с нами.
Конечно, бартовскую теологию, вопреки ее общепринятому названию, можно считать недостаточно диалектичной, поскольку она предполагает истинным лишь путь Бога к людям. Но несомненно, что либеральная, или гуманистическая теология, прокладывающая путь от человека к Богу сочетанием благочестия, разума и молитвы, тоже недостаточно диалектична. Суть теологической диалектики, в отличие от философской, гегелевской, состоит в необходимости и несовместимости обоих путей: мы роем свой туннель в одном направлении, а Бог — в другом. Наш туннель заканчивается тупиком, а куда Он прокладывает туннель, мы можем догадываться только по страшным толчкам: почва сотрясается, рушатся своды, нас засыпает землей, и выхода к свету не видно.
Можем ли мы взглянуть на себя с Его стороны, в обратной перспективе, глазами самого Откровения, Апокалипсиса, самой непонятной, нечеловеческой книги из всех библейских? Кто мы: муравьи, таскающие свои соломинки? волки, подслеповато глядящие в небеса и воющие от тоски? Будь я Богом, я бы немедленно всех простил и помиловал, приблизил к себе, пусть в разной степени. Залил бы небеса светом, собрал бы ангелов петь под чарующую музыку и каждому смертному подарил бы по бессмертной взаимной любви. Я бы… Но мои представления отдают приторным дурновкусием безмятежного счастья. Потому–то я и не Бог.
3. Собачье богословие
На фреске Микеланджело Бог и Адам тянутся друг к другу, но их руки не соединяются. Рукопожатие Бога и Адама было бы не только художественной безвкусицей, но и теологической нелепицей, ибо их природы несоизмеримы, рука человека мгновенно истаяла бы в руке Бога. Даже если человек есть образ и подобие Бога, то он принадлежит другому измерению, и этой инаковостью нельзя пренебрегать. Поэтому природа человека остается невыводимой из Откровения и несводимой к Откровению, как и теология не может плавно, без скачка, перейти в биологию, социологию, психологию, культурологию и другие науки о человеке. Это место разрыва может быть отмечено лишь совокупностью научных гипотез и духовных усилий.
По мысли Вольфхарта Панненберга, «человек не определяется окружающей средой, но открыт для мира. Это означает, что он всегда способен к новым и нового рода опытам и что его возможности отвечать на воспринятую реальность являются почти безгранично разнообразными».