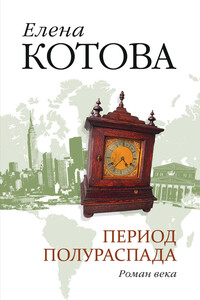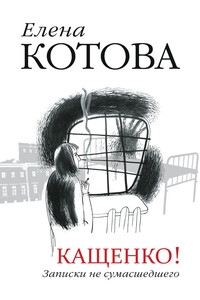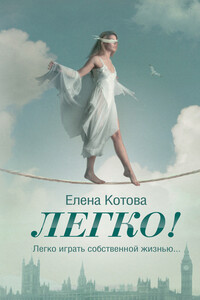Откуда берутся деньги, Карл? Природа богатства и причины бедности | страница 72
«Чумазый играть не может!»
Легендарный эпизод фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»: помещик-дворянин, которого играет Олег Табаков, ужасается, видя дворового, исполняющего на пианино Шопена. Какое же облегчение приходит, когда он понял, что пианино-то механическое. «Я же говорил! — кричит. — Чумазый играть не может!»
В массе своей так и было. Неграмотное, забитое крестьянство два века выживало в недоедании и принудительном труде. От сознания, что выше головы не прыгнешь, — привычка довольствоваться малым, и тут же готовность к насилию, просто так, по пьяни, от невозможности приложить ум и руки к чему-либо созидательному. Достойная бедность возможна лишь до определенного порога. Открытая нищета не имеет морали, у нее всегда омерзительно античеловечное лицо.
Это не могло пройти бесследно, с отголосками холопско-рваческого отношения к труду мы сталкиваемся сегодня сплошь и рядом. Казалось бы, люди решили заработать. Подрядились отремонтировать забор и, получив аванс, тут же ушли в запой навсегда, а ты все смотришь на свой разваленный забор. Гастарбайтеры из Белоруссии, с Украины, то есть потомки тех же крепостных крестьян, аж в Москву отправились. Исключительно ради денег. Взялись вам дачу строить, а через неделю вспомнили, что у племянницы в Минске свадьба, оказывается! И заявляют вам, что отбывают на гулянку. Не на пару дней — на неделю! Забыли, что ли, зачем приехали?
Один мой приятель обожает прибаутку: «Русский человек — это такой человек, которому все время что-то нужно… Но не так, чтобы это непременно было, а так, что если нет, то и пошло оно нах…» Ломаться ради денег? Они нужны, но не «так, чтобы непременно было». Если приспичит, откуда-то и сами возьмутся. Немного, но на застолье хватит, а дальше видно будет. Нет у нас школы созидания богатства собственным трудом и по собственной воле, есть только наследие веков подневольного труда. Так судьба сложилась. Миллионы людей были доведены при крепостном праве до положения «белых рабов», и в общине они оставались бесправными париями. Об этой трясине традиционного сектора империя вспоминала, лишь когда требовались подати. Это и была «внутренняя колонизация».
Но даже в болотах всегда есть твердые кочки. Именно русские промышленники, выбившиеся из низов, создавали островки новых отношений. Они стремились изменить «чумазого», потому что им нужен был труд такого же уровня, качества и культуры, как в Англии, — совершенно рациональный мотив. Среди «чумазых» они отбирали талантливых и хватких — как Столыпин, который делал «ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных». При этом всегда помнили и о тех, кто обделен талантом, умом, здоровьем, а то и разумом, понимая, что ради здоровья всего общества и о них кто-то должен заботиться. Промышленники и заботились — сами, безо всяких социальных программ, на собственные деньги, не перекладывая эту задачу ни на кого, потому что имперскому государству и его «мыслящим умникам» на убогих было наплевать.