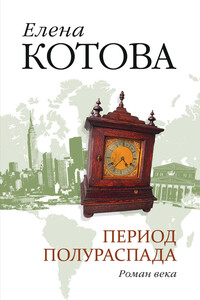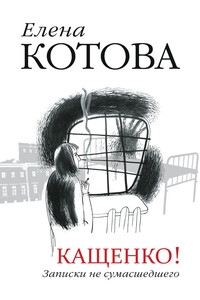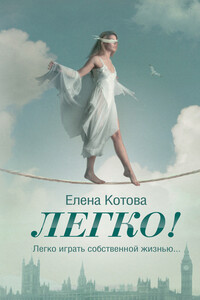Откуда берутся деньги, Карл? Природа богатства и причины бедности | страница 58
Столыпинская реформа, побудив крестьян выходить с землей из общин, создала условия для индустриализации в сельском хозяйстве. Крестьяне стали применять машины! Конечно, не было денег, но возникали станции проката оборудования, кооперативы и земельные товарищества — по сути, зародыши акционерных обществ. Поэтому не провалом закончилась реформа, как даже сегодня считают многие. Она закончилась убийством Столыпина, а вскоре после этого — войной. «Известный российский исследователь Игорь Бунич убежден, что, если бы программа Столыпина воплотилась в жизнь, к 1940 году Россия экономически обогнала бы США и эволюционным путем пришла бы к парламентской монархии»[29].
Конечно, дело шло трудно! Как иначе: в континентальной Европе ликвидация чересполосицы и землеустройство на капиталистический манер, начавшись еще в XVI веке, продолжались три века. Крестьяне всех стран консервативны и крайне невосприимчивы к переменам. В Германии, Финляндии, Польше они в массе своей не хотели жить на хуторах, а продолжали держаться за свои деревни, лишь несколько упорядочивая чересполосицу, но не отказываясь от нее. Случаи стихийного народного творчества в таких вопросах крайне редки. Во всех странах это дело энергичных правительств и просвещенных помещиков. Крестьяне начинали верить в эффективность обособленного хозяйства только на живых примерах, не быстро и не легко. Люди всегда привержены привычному укладу жизни, «это слишком по-человечески», как говорил Витте. Столыпин же повторял, что общинный вопрос нельзя решить, его можно только решать.
Из общины за годы реформы вышло меньше половины крестьян, что тоже ставится Столыпину в вину. Надо иметь медный лоб, чтобы полагать, что сознание, которое формировалось в течение двух веков крепостничества и полувека после его отмены, вдруг враз изменилось бы оттого, что крестьянин получил бумажку о собственности на землю. Сознание и сегодняшнего традиционного сектора меняется крайне медленно. И сегодня «мыслящие и образованные» ставят народу в вину его «общинную психологию», не желая понимать, что превращение крестьян в свободных собственников было перечеркнуто революцией, а затем общинное мышление только закреплялось все последующие 70 лет.
Тем не менее к началу Первой мировой войны из общин вышло более 30% крестьян. В центральных частях Европейской России, на ее юге эта цифра превышала 50%. Это уже было качественным изменением и в экономике, и в сознании.