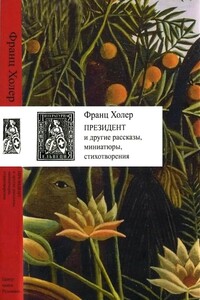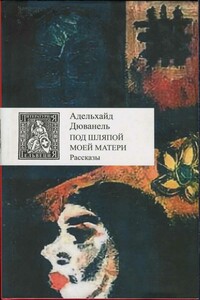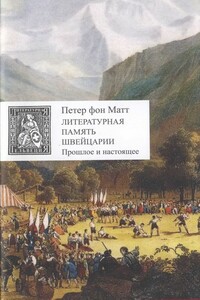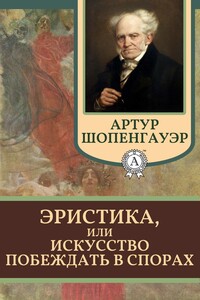Коала | страница 13
Я захлопнул книгу, не чувствуя, однако, ни утешения, ни покоя: великий и мужественный акт свободной воли применительно к судьбе брата отдавал позерством и пошлостью, малодушной попыткой принарядить поражение в тогу геройства.
Впрочем, оставались еще жертвы любви, все эти отринутые и отвергнутые, чьи жизнеописания я уныло перелистывал. Ничего похожего на воодушевление и энтузиазм, с какими иные влюбленные хватались за пистолет или чуть ли не с воплем восторга кидались в пучины, я в поведении брата при всем желании припомнить не мог. Напротив, его поступок выглядел результатом холодного расчета, трезво подведенного жизненного баланса, и даже если допустить, что в последние месяцы он безумно страдал от несчастной любви, никаких следов безумства этой страсти в характере и способе его деяния не просматривалось. В нем не было никакого фанатизма, он не отшвырнул, не отринул от себя свою жизнь, а аккуратненько положил на место, как возвращают ключи от квартиры, из которой приходится съезжать, — пусть, быть может, и не без ностальгических воспоминаний о прожитых под этим кровом годах, но вполне осознавая, что сами ключи тебе уже не понадобятся.
Как же мне недоставало предсмертной записки, этих нескольких строк, которые раз и навсегда объяснили бы, почему, с какой стати он добровольно ушел из жизни! Это послание, так мне казалось, избавило бы меня от всех моих вопросов, и поскольку брат мне его не оставил, я взлелеял надежу найти хоть некоторые ответы в добросовестных свидетельствах врачей-невропатологов, собравших и систематизировавших отчеты о последних часах многих безвестных самоубийц. В них исследовались и предсмертные записки, эти последние приветы от навсегда уходящих миру живых.
Как, к примеру, от Мэри, гувернантки, которой только что исполнилось шестьдесят и она, тридцать лет проживши в Америке, впервые приехала навестить родной город. Через неделю она собиралась возвращаться, уже был куплен обратный билет на корабль, когда она написала: «Умоляю, простите мне все, что я всем вам причиняю. Телеграфируй П. и М., чтобы никто на корабль не садился. Мертвую меня в доме не держите, сразу же отправьте в морг или куда угодно. Обо мне не горюйте, я этого не стою. Господь да простит мне, у меня больше нет сил. До свидания на том свете. Пожалуйста, пошли госпоже М. то, что у меня в черной сумочке. Я на чердаке. Мэри».
Или вот коротенькая, без даты, записка некой безымянной парикмахерши, найденная у нее в комнате в ящике стола. Женщина, по свидетельству все тех же дотошных докторов, родилась в Вене и имела любовную связь с сотрудником, тоже парикмахером, на двенадцать лет ее моложе. И они вроде бы даже собирались пожениться, но часто ругались, как и в тот роковой вечер, когда женщина два раза заходила в комнату своего возлюбленного пожелать ему спокойной ночи. После чего застрелилась. Оставив возлюбленному сбивчивое послание: «Каждая женщина, с которой ты будешь нежен, а думать будешь только обо мне. Привет и последний поцелуй, М.».