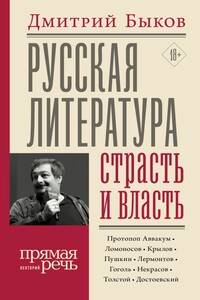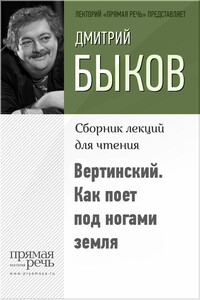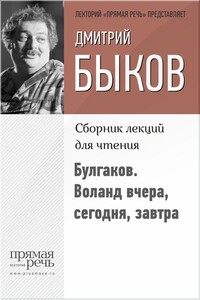Салтыков-Щедрин | страница 13
Вот здесь я должен, пожалуй, покаяться. Как известно, незнание предшественника не освобождает от ответственности. Когда я писал «ЖД», я думал, что теория о захваченной стране выдумана мною. Но оказалось – не мною. Следовало бы внимательно прочесть переписку Щедрина со славянофилами. Как ни странно, первым эту идею высказал замечательный славянофил Павлов. Он писал Щедрину: «Вот написали бы вы книжку о том, что у нас страна захваченная и что все эти чиновники, которые на нас пришли, все 14 классов – это не свои, это оккупанты. И ведут они себя здесь как оккупанты. И страна наша, по сути, никогда, с Петровских времен, не жила по своему закону. Это Петр оккупировал Россию, чтобы заставить ее жить и развиваться на западный образец». Насчет западного образца можно спорить, насчет того, что оккупировал Петр, можно спорить тем более. Потому что при Иване Грозном все это уже было. Но нельзя не признать одного: Россия – захваченная страна. И вот об этой захваченной стране Щедрин пишет в последующих своих текстах.
И в «Современной идиллии», и в «Благонамеренных речах», и в «Господах Молчалиных» проходит самая страшная мысль – вот эта жизнь в захваченном государстве, а термин «варяги» появляется уже у него, как ни странно, эта жизнь ужасна не только тем, что она развращает захватчиков, она ужасна тем, что она развращает захваченных. И в книге «За рубежом», вероятно, самой горькой из того, что Щедрин написал, появляется чудовищный диалог, вечно вызывающий гомерический хохот, – «Мальчик в штанах и мальчик без штанов».
Так вот этот разговор немца, мальчика в штанах, с русским мальчиком без штанов, который на протяжении всего разговора не выходит из лужи, – это знак страшного разочарования в обеих мировых системах. Разочарования, конечно, религиозного. Запад далеко отошел от Бога, а русские и не знали его никогда. Вот это тот ужас, который позднего Щедрина переполняет.
О том, чем он болел, кстати говоря, в русской историографии нет сколь-нибудь конкретного ответа. Дело в том, что Щедрин жаловался на болезни начиная с пятилетнего возраста. Так он сильно, видимо, нравственно страдал. Но, как ни странно, он действительно был болен. Просто, как большинство людей, живущих духом, живущих мозгом, он, по всей видимости, сильнее зависел от умственной своей жизни, чем обычные наши сограждане. Он воспринимал свою душевную боль как физическую. Это можно сказать и о Блоке. Как ни странно, это можно сказать и о Ленине. Вот о Толстом нельзя. Потому что толстовская жизнь, скорее, наоборот, была всегда невероятно физиологична. И поэтому Софья Андреевна Толстая с горечью жаловалась в дневнике: «Левочка совсем не верит, что может быть тоска. Он полагает, что это всегда от желудка». И действительно, он на личном опыте, должно быть, это знал. Вот человек, вся жизнь которого, особенно умственная, была детерминирована жизнью телесной. И совершенно правильно говорил Чехов о том, что «Крейцерова соната» с ее проповедью безбрачия продиктована исключительно старческой невозможностью долее размножаться – ничего другого за этим нет.