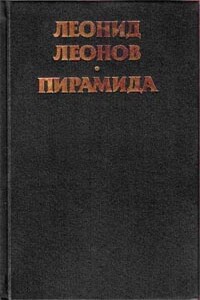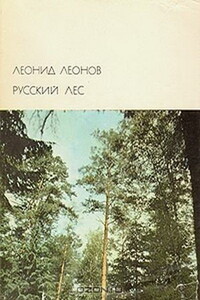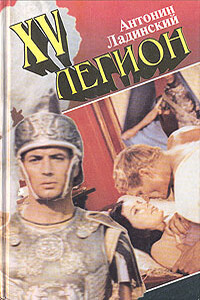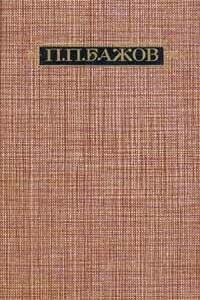Вор | страница 32
На последней, ветхой и мятой, выцветшей от времени и засиженной мухами картонке изображен был крохотный дворик. Посреди, на ящике, сидела девочка в рваной юбчонке и с босыми ногами, Татьянка, сестра. А рядом стоял он сам, Митя Векшин, медвежатник и куклим — фальшивопаспортный! — а тогда восьмилетний мальчик, стройный и улыбающийся от неповрежденной своей хорошести. Он улыбался все эти годы, покуда жизнь кидала его плашмя и всяко оземь, грозя разбить. Он улыбался, фотографический мальчик Митя, когда в царскую войну шла на него молчащая баварская пехота, блестя при луне сталью опущенных штыков и никелем орластых киверов. Он улыбался, улыбкою преодолевая смерть, когда с десятком удальцов бежал в Октябре на юнкерскую картечь. Улыбался, и даже слепорожденный учуял бы детскую его улыбку. Улыбался и выцветал, и горечь не туманила ему голубой светлости глаз. А сам он, настоящий Митька, жил все эти годы совсем без улыбки; она ослабила бы остроту ума и непоколебимую твердость воли.
Дворик… Копошились куры у ног сестренки, но две на заднем плане уже отправлялись на насест. Стояла слева яблоня; один ее сук бессильно отвисал вниз на тонком ремешке коры, жалкий, подобный сломанной руке. Теперь Митька заново ощутил на лице предвестный холодок той дикой бури, которая, переломав на ближней поруби все сосны-семенники, не пощадила и яблоньки в маленьком садике Егора Векшина, сторожа на разъезде и митькина отца. Всю ночь как бы сумасшедшие поезда бежали по рельсам, наполняя ее воем и грохотом. А утром ликовало уцелевшее, изнемогая от соков. А утром и уговорил Егора бродячий фотограф снять на память детей. Тогда еще не рождался этот… как его звали? Ах, Леонтий! Тогда еще жива была митькина мать.
Допоздна просидел Митька над выцветшей фотографией, озаренной дальним светом юности. Невозвратимая пора раскрылась заново, как книга, но не все страницы ее стали одинаково разборчивы. В сумерки овладел он новой подробностью. В тот вечер за углом деревянного векшинского домика стояла Машка, лошадь. Ничто на фотографии не указывало на ее присутствие, но душа кричала, что она тут, тут. Все ждет, когда вернется Митька и поведет к колодцу после дневной страды. Глупая и терпеливая, ожидающая двадцать лет!
Впервые за эти годы Митька спал хорошим, взволнованным сном. Утренняя пасмурь заглушила вчерашнюю радость: очарованье бумажного квадратика рассеялось. Митька устыдился честности документа, безжалостного, как улика. Он спрятал его вместе с тряпьем на глубокое дно чемодана и самый чемодан задвинул под кровать. Затем побежали дни, полные искушений. Тревожное бездействие свое он сам объяснял незнанием: разыскивать ли сестру, писать ли отцу, предаться ли прежней запойной беззаботности. Все мнилось ему, что жив отец, только сгорбился, да обильная седина пропорошила стариковский затылок.