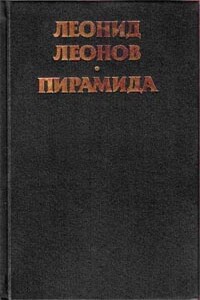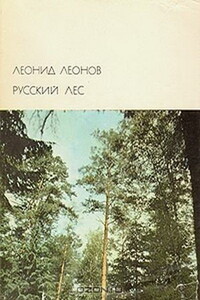Вор | страница 11
В совершенной тишине, блистая грубой золотой брошью, мановеньями рук умеряя дрожь гармонистов, она пела свою знаменитую:
Наливались багровым восторгом глаза слушателей, качавшихся в такт песне, а какой-то зашиканный пропойца плакал в углу и пялил выгорелые глаза на буйные прелести Зинки. Недопитое пиво, недослушанная песня удержали Заварихина в пивной; да и не хотелось сменять удушающего сего уюта на слякотную улицу, на молчащего Пчхова. Разойдясь, ибо хмелея терял всякий удерж, он заказал еще пива… Тогда в пивную вошел посетитель, разом овладевший всеобщим вниманием.
Никто не проводил певицу ни хлопком, ни увлажненным взглядом; смяв конец песни, она торопливо сбежала по тонким, прогибавшимся под нею приступкам. Завсегдатаи во все глаза выщупывали новопришедшего, дивясь чему-то и волнуясь. В романовском полушубке косился но сторонам, и храбрый ус его брюзгливо отвис. Кто-то шепнул: «Митька», но и это ничего не пояснило Заварихину… Он и впрямь стоил такого вниманья, этот молодой, в шляпе и доброй енотовой шубе, — на ней еще блестели мельчайшие капельки изморози. Небрежные, низенькие бачки брошены были ему на щеки, а по высокому лбу, не поражавшему при первом взгляде, странная и глубокая, как шрам, бежала морщина. — Не спроста потерялась среди песни Зинка, застигнутая врасплох ровным и ясным митькиным взглядом.
Захваченный странным очарованием, Заварихин не воспротивился, когда тот без позволенья уселся за его стол. Легонько сдвинув в стороны николкины бутылки, он заказал себе чаю с лимоном.
«При такой-то шубе да лимонный чай!» — Николка оскорбленно зашевелился; снисходительное безучастье Митьки к обилию николкиных бутылок злило и подымало на дыбы.
— Шубу-то, парень, не бережешь! — дружелюбно качнулся Заварихин и потянул соседа за полуоторванный на рукаве лоскуток.
— Это еще в тюрьме, — просто сказал тот и опять уставился в желтый лимонный кружок.
Тогда, наполнив свою кружку пивом, Заварихин придвинул ее, переполненную пеной, прямо на лимонный чай: он угощал. Стакан закачался, а лимон чуть не выплеснулся наружу.
— Пей! — с озорством крикнул Заварихин и заглянул в поднятые митькины глаза. В них светился ясный, холодный осенний день; они не расспрашивали, но предупреждали, и Николка почуял, что с таким нужно либо братски дружить, либо биться смертно. — Пей, а то сам выпью. Пей, заплочено. Дармовое ведь… пей!
Митька молча глядел в переносье Заварихину, где вкрутую сбегались брови. Разгневанная сила медленно выпирала из Николки. В бешеном размахе натуры своей, определявшем впоследствии весь его торгово-промышленный рост, он уже не щадил ни себя, ни денег и действовал вопреки рассудку. Выпрямясь во весь рост у стены, сам полунищий, он созывал всю эту темную ораву к себе за стол, на даровое угощенье. Его лицо сперва порозовело, потом окрасилось багрецом и подпухло. Он приглашал их бранными словами и с неистовством, достаточным, чтоб убить. Грудь его раздулась, как гора, жила во лбу потемнела до грозовой синевы, оранжевость кожана приобрела многозначительную яркость. — Николкин дед гонял лошадей на тракте, и средь мужиков досель ходили сказы об его ямщицких доблестях. Теперь словно бы вселилась душа дедовских рук в волосатые николкины руки. Они жаждали усмирять и взнуздывать, — теперь бы непокорную тройку под николкины власть и вожжи!