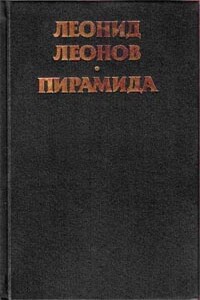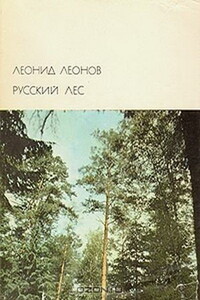Вор | страница 100
«Люблю день этот, уцелевший в памяти, и не скрываю привязанностей моих, Николаша, ибо ведь на государственную нонешнюю службу не прошусь я. Но и не хвастаюсь, но и не прельщаю греховными прелестями. Нового создашь мамона, и ему поклонишься до земли, ибо не может человек прожить без кумира. Чего мне скрываться от тебя? Пал, пал, и шея наполовину свернута. Докрути ее, сынок, докрути!
«Прежде чем каяться в жизни моей, сознаюсь: плохо живу. Пробовал я изобретать; изобрел краску для замши и абажур для ночных занятий, но не прошло. Торговать пробовал, сперва — коврами, ботинками, кокаином и картинами, а потом — крестиками, наперсточками: навыка нет. Обучился играть на бокале, как на флейте: мало кому нравится. Теперь подвираю за деньги. Подходишь к столику и не знаешь, полтинничек дадут, либо по шее. Вот уж понизил я вознаграждение до четвертака, но и то порой не емши спать ложусь. Наедаюсь вполсыта, хотя немалое внимание уделяю водчонке. Один остался путь мне: — умереть, отпасть от дерева, подобно зрелому яблоку по осени. В том-то и горе, что возлюбил я путаное это древо и еще хоть чуточку повисеть хочу.
«Ты был первенцем и единственным сыном своих родителей. Но у тебя есть братец, Николаша, и я ему отец. Ты не один в природе, стыдящийся своего отца. Издалека слежу я за ним, любопытствую о семени своем. (Отупеваю потихоньку, а перестать не могу!) Старческое любопытство: трясусь, чем все закончится. Вот ты молчишь, я и говорю, а заговорил бы ты, и молчок тогда отцу твоему! — Взаимная неурядица наша и началась, если помнишь, с того знаменательного вечера, когда застал ты меня с другою женщиной, не матерью твоей. Она стала матерью неизвестного тебе братца твоего. Муж ее, сторож на разъезде, лежал в те веки в роговской больничке, а жена его мыла у нас полы. Статная была баба, а я, сам знаешь, не сильный человек, а в бурю какое дерево выдержит? Вбежав и увидев, закричал ты страшно и буйственно, ждали даже припадка. Ты ведь рос мальчиком вдумчивым, стремился познать многое, стучался в тайну, и вот ребенком познал ты срам отца. Занимательного подарил я тебе братца, ангелок мой…»
Так струился по бумаге яд великого манюкинского разочарования.
II
— Сергей Аммоныч, да оторвитесь же на минуточку! Галстучек завяжите мне, пожалуйста… бантиком, если возможно. Не выплясывается что-то у меня! — бубнил над ухом его сожитель, заглядывая через плечо в тетрадочку. Манюкин с досадой повернул голову и принялся завязывать галстук на вытянутой шее Петра Горбидоныча Чикилева. — Потуже, потуже, а то у меня всегда съезжает и запонка видна. Случай-то уж больно торжественный… решительный бой! О чем ни вы все пишете по ночам? Показали бы, я ведь очень этого… люблю почитать, — воздушно покрутил пальцами Чикилев. — Потуже, прошу вас!