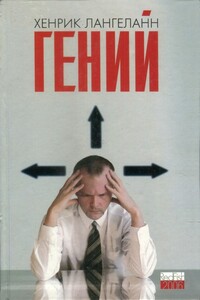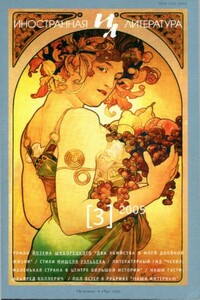Путешествие в Ур Халдейский | страница 24
— Ох, мой жизненный тупик! — воскликнул он и вместо того, чтобы снова опустить голову на подушку, одним махом кинулся в атаку и разом овладел двумя ключевыми позициями: керосинкой и примусом. На керосинку он поставил чайник с водой, а на примус — утюг.
«Мой жизненный тупик» — с этими словами он просыпался ежеутренне, с тех пор, как на самом деле попал в тупик по дороге к сиротскому приюту. Сиротский дом «Мориа» находился в Бухарском квартале, и в первый раз, когда ему предстояло добраться туда, чтобы встретиться с заведующим, он решил сократить путь, пройдя по одному переулку, который, как ему казалось, вел прямо к приюту и, по логике вещей, действительно должен был бы заканчиваться выходом на улицу, где находилось сие заведение, однако в конце был перегорожен каменной стеной, служившей, как видно, задней стеною какому-то дому. Тогда, стоя у каменной стены, перекрывшей узкий переулок, когда запах гниющих фруктов с находившегося рядом прилавка ударил ему в нос, Срулик и сказал себе: «Тупик моей жизни», и внезапно ему стал внятен смысл гнета, ежеутренне при пробуждении давившего на его грудь. В ту самую пору, когда он закончил обучение в семинарии, в тот час, когда предстояло ему выйти на столбовую дорогу своей жизни, ведущую на бескрайние просторы грядущего, непосредственно в самой исходной точке он натолкнулся на глухую стену. Не одна за другою, а, по их обыкновению, все вместе и одновременно неприятности преградили ему дорогу, словно горный обвал. И все старания, все унижения не только не помогли ему пробить этот заслон, но едва позволяли топтаться на месте.
— Так много унижений, так много стараний только ради того, чтобы продержаться, чтобы продлить это жалкое существование в этом заплесневелом болоте!
И запах плесени действительно ударил ему в нос от сырой, «ревматической», как говорила его мать, стены, той самой стены, которая начала снова, будто леопард, проращивать на своей физиономии пятна плесени, после всех усилий, всех операций, после скобления и рытья, после всех слоев бетона и штукатурки. Если бы не мать, он бы не предпринимал всех этих усилий. Его самого, например, совершенно не волновала ни сырая стенка, ни прочие удручающие проблемы. Так же, как все эти годы трех рабочих часов после обеда в библиотеке хватало ему для прожития, так и сейчас он довольствовался бы тем, что попадалось ему по пути, а все свои усилия сосредоточил бы на «важнейших, сущностных вещах, таких вещах, для которых он, Исраэль Шошан, был предназначен с рождения, на самом заветном…», но в первую очередь — встал бы и уехал. Он уже окончательно решил про себя, что сразу же по окончании занятий в семинарии он встанет и уедет, поплывет по стране и пройдет по ней вдоль и поперек, побывает во всех местах, особенно на археологических раскопках, начатых в последнее время, и будет «свободен, как орел в вышине», для «самого заветного, глубинного, сущностного, для которого он предназначен». Мысль о предстоящем ему по окончании учебы путешествии вызывала в нем сладкую дрожь наслаждения, вроде той, какую он испытал при первой поездке в машине, уже юношей, студентом первого курса семинарии. До тех пор он никогда не ездил в машине и даже в экипаже, запряженном двумя лошадьми, ездил лишь однажды в детстве, когда заболел и был отвезен в больницу. К блаженному трепету от самой езды, к ощущению движения на просторе и свободы, к тайне открывавшихся впереди и отступавших в прошлое пейзажей и к тоске по дороге в края за пределами сменявшихся горизонтов добавлялось нечто вроде философии, примыкавшей к «глубинному и сущностному», некая метафизика «Пойди из земли твоей»