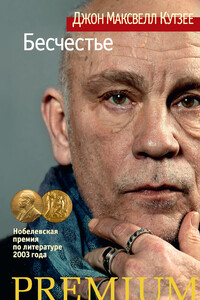Леопард. Новеллы | страница 20
Однажды прощанье получилось неприятным. Дон Фабрицио, пятясь назад, уже успел, как положено по этикету, поклониться второй раз, когда король снова к нему обратился:
– Послушай, Салина, говорят, ты завел в Палермо дурные знакомства. Этот твой племянник, Фальконери, почему ты ему мозги не вправишь?
– Ваше величество, но Танкреди интересуют только карты и женщины.
Король вышел из себя:
– Ты совсем рехнулся, Салина? Не забывай, что ты опекун, а значит, за него отвечаешь. Скажи ему, пусть поостережется, а то ведь можно и головой поплатиться. Мы желаем тебе всего хорошего.
Проходя на обратном пути через те же помпезные залы (требовалось еще расписаться в журнале королевы), князь впал в полное уныние. Плебейское панибратство короля было не лучше его полицейских угроз. Блажен, кто верует, будто фамильярность – знак дружбы, а гнев – проявление королевского величия. Ему претит и то и другое. Болтая с безукоризненно вежливым камергером о всякой всячине, он думал про себя: какая судьба ждет эту монархию, уже отмеченную знаком смерти? Бурбонов сменит Пьемонтец[50] – этот фат, поднявший столько шуму в своей заштатной столичке? И что от этого изменится? Скорее всего, только диалект: придется привыкать к туринскому вместо неаполитанского.
Дошли наконец, и он расписался в журнале: Фабрицио Корбера, князь ди Салина.
А если будет республика Пеппино Мадзини?[51] Нет уж, спасибо, тогда он станет просто гражданином Корберой.
За долгий обратный путь он так и не успокоился. Даже предстоящее свидание с Корой Даноло не смогло отвлечь его от мрачных мыслей.
Что делать, если уже ничего нельзя поделать? Держаться за то, что осталось, и смириться? Или все решит сухой треск выстрелов, как это недавно произошло на одной из площадей Палермо? Но даже выстрелы, что они изменят?
– Одним бабах ничего не добиться, правда, Бендико?
Динь-динь-динь – зазвенел колокольчик, созывая к ужину, и Бендико, роняя слюни в предвкушении еды, помчался к дому.
«Ну вылитый Пьемонтец», – подумал Салина, поднимаясь по лестнице.
Ужин на вилле Салина сервировали с претензией на роскошь, увлечение которой захватило в те годы Королевство обеих Сицилий. Одно лишь количество кувертов (на четырнадцать персон, считая чету хозяев, детей, гувернанток и воспитателей) уже придавало столу внушительный вид. Штопаная скатерть из тончайшего полотна сияла белизной под яркой карсельской лампой[52], сикось-накось подвешенной к люстре венецианского стекла под нимфой на потолке. За окнами было еще светло, но белые фигуры на дверных притолоках, имитирующие барельефы, уже слились с темным фоном. Столовое серебро отличалось массивностью, на бокалах из граненого богемского стекла красовались медальоны с монограммой